Верьте обещаниям Господа! Нигде в Священном Писании Бог не обещал беззаботную и легкую жизнь. Наоборот, наказывая Адама, Он сказал ему и чрез него всем дальнейшим поколениям: «в поле лица твоего будешь есть хлеб » (Быт. 3, 19) Но, в Библии много обещаний от Господа о том, что Он любит нас и с нами, когда мы страдаем и «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (« Тим. 1,7). Спаситель предупредил тех, кто идет к Нему в Царствие Небесное: что »возложат на вас руки и будут гнать вас, в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое» (Лук. 21, 12). В Отечестве правительственные органы и руководство МП преследуют тех, кто не находится в административном контроле патриархии, но гонимые знают слова из Священного Писания: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5, 11) продолжая свой путь за Христом, в уверенности что хоть у них забрала патриархия храмы и имущество, но Церковь это верующие и духовенство: «разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3, 16) ибо сказано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет» (Деян. 17, 24).

ОБРАЩЕНИЕ
Преосвященного Андрея (Маклакова), епископа Павловского Русской Православной автономной церкви (РПАЦ)
Русская Православная Автономная Церковь, к которой я принадлежу, сейчас, в 21 веке, на глазах всего мира, подвергается непрестанным жестоким гонениям со стороны властей государства, называемого Российская Федерация.
Наших прихожан и священнослужителей в городе Суздале и других местах Владимирской области оскорбляют словесно, применяя приемы психологического террора, нередко запугивают и избивают. Так, в 2002 году был избит прямо на паперти Цареконстантиновского собора г. Суздаля иподиакон Андрей Смирнов, выходивший из храма после Божественной Литургии. Инцидент стал результатом категорического отказа иподиакона сообщить «компромат» на Первоиерарха РПАЦ.
13 октября 2005 года неизвестными преступниками, проникшими в Синодальный дом РПАЦ в центре Суздаля был избит сам Первоиерарх РПАЦ Митрополит Суздальский и Владимирский Валентин (Русанцов) до потери сознания. Синодальный дом находится прямо напротив районного ОВД. Преступники не понесли наказания.
В наши церкви вламываются, их них крадут иконы и церковную утварь, их поджигают, на них делаются кощунственные надписи. В 2002-04 гг. неизвестные поджигали гараж Синодального дома, здание женского монастыря на Васильевской улице, церковный дом на Слободской улице, взламывали Цареконстантиновский кафедральный собор и церковь Новомучеников и Исповедников Российских, делали попытку подбросить патроны в Успенский храм. Неоднократно бандитствующие группы врывались в церкви во время богослужений. Ни в одном из этих случаев не было проведено расследования, не было ни суда, ни приговора злоумышленникам правоохранительными органами и властями, которые по своему долгу должны охранять права граждан и защищать невиновных.
На нас возводят клевету, распространяют ложные слухи, устраивают провокации, очерняют в средствах массовой информации. Кампания лжи, клеветы и поношений достигла своего апогея в 2002 году, когда Митрополит Валентин (Русанцов) был обвинен в содомии по отношению к детям. Инициатором этого позорного клеветничесткого действа был запрещенный клирик РПАЦ А.Осетров, позже снова принятый в Московскую патриархию РПЦ. В процессе следствия на детей оказывалось противоправное и аморальное давление со стороны следователей и группы поддержки Осетрова. После суда все малолетние свидетели и их родственники отказались от своих показаний. Они утверждали, что их заставили это сделать, и просили прощения у Митрополита Валентина.
Ни кампании клеветы в СМИ и листовках, расклеенных повсюду, ни пикеты ряженых «казаков» и других, утверждавших, что она защитники правого дела, которых привозили из Москвы на автобусах, ни обвинительный вердикт Митрополиту Валентину не отвратили от него и от нашей Церкви ни верующих, ни священников и епископов. Люди понимали, что и сам Первоиерарх РПАЦ, и они вместе с ним страдают за веру, во славу Христа.
Ибо как говорит Господь нам: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня» (Матф. 5: 10-11).
От кампаний клеветы и лживой пропаганды против РПАЦ в 2006-2007 годах власти перешли к административно-судебным преследованиям. Многократные «проверки» финансовой и хозяйственной деятельности церкви не дали желаемых результатов. Тогда государственная организация Владимирское Территориальное управление «Росимущества», возглавляемое неким В.Горлановым, при поддержке федеральных властей в Москве, начала кампанию по изъятию у РПАЦ церквей, храмов, часовен, церковного имущества.
Эти заброшенные и полуразрушенные церкви, каковыми они были еще в начале 1990-х, были тогда переданы государством в бессрочное пользование РПАЦ с условием, что мы отстроим, отремонтируем, реставрируем их и что они будут использоваться в религиозных целях. Весь православный народ Суздаля при поддержке православных из зарубежа участвовал в этом великом строительстве. Были вложены сотни тысяч долларов, миллионы рублей. Более двадцати лет мы молились Богу и славили нашего Господа Иисуса Христа в этих церквях. Однако в 2008 году государство решило, что мы больше не имеем права молиться в них, что мы должны быть насильственно выдворены.
Судебные решения Арбитражного суда, как и следовало ожидать в этой беззаконной стране, были против верующих. Десять церквей г.Суздаля и несколько церквей в других местах Владимирской области в 2009-2011 годах были отняты у РПАЦ. Аппеляции и жалобы в органы, надзирающие за правильностью судов, остались без должного законного внимания. Одновременно власти вели кампанию безосновательных обвинений, махинаций и травли против клира и мирян РПАЦ, то требуя вынести все церковное имущество из зданий и штрафуя нас при неподчинении, то обращаясь в правохранительные органы с заявлениями о «кражах» церковного имущества из зданий, когда мы выносим все из церквей.
В дальнейшем, эти церкви были переданы государственной МП РПЦ. Таким образом государственные власти демонстрируют вопиющую дискриминацию РПАЦ по религиозным основаниям. Государство, которое по Конституции РФ, отделено от церкви, попирает права граждан, принадлежащих к РПАЦ в пользу МП РПЦ. В то же время выяснилось, что богослужения в отнятых храмах проводить некому и не для кого, так как люди не ушли в Московскую патриархию вместе со зданиями, как ожидалось властями. Большая часть отобранных у РПАЦ церквей в настоящее время стоят пустыми, заколоченными, без отопления в зимнее время, без минимального ухода за ними. Они начали разрушаться, и это символически для всего противобожного государства РФ, которое определило само себя преемником атеистического СССР.
Наши прихожане вынуждены молиться в частных домах, нередко тайно, точно как истинно-православные катакомбные христиане во время репрессий и гонений режимами Сталина и Хрущева.
Тем не менее даже этого властям РФ не было довольно. Они начали новую кампанию судебно-административных репрессий против РПАЦ. Эта кампания совпала с кончиной в январе 2012 года Митрополита Валентина (Русанцова). Покойный Первоиерарх РПАЦ еще не был погребен, когда власти послали своих представителей для описи церковного имущества и для демонстрации своих намерений по отношению к верующим. Было заявлено, что следующим актом властей РФ, который нам надо ожидать, будет конфискация у РПАЦ... мощей святых Евфимия и Ефросиньи Суздальских.
Сразу же началась травля прихожан и клириков РПАЦ через печатные СМИ и телевидение: их обвиняли в том, что якобы доступ к святым мощам закрыт для верующих. Это откровенная ложь. РПАЦ всегда предоставляла полный доступ к этим православным святыням для верующих.
В 1988 году мощи святых Евфимия и Ефросиньи, которые чудом избежали полного уничтожения в антицерковной войне коммунистического государства, были переданы директором музея трем частным лицам. Одним из этих трех людей был будущий Митрополит Валентин, наш Первоиерарх.
Но как же оказались костные останки святых во владении государственного музея? Нет сомнения, что в результате разграбления коммунистами монастырей и церквей.
Возвращение мощей святых Евфимия и Ефросиньи в 1988 году верющим было актом восстановления справедливости и, вполне возможно, даже покаянием руководителя музея за жестокости, совершенные государством в правление Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Однако теперь государство РФ, последовательно проводя свою дискриминационную политику против РПАЦ, потребовало мощи назад.
Одновременно и Владимирская епархия МП РПЦ дала знать, что кампания ведется под ее контролем и при содействии федеральных властей РФ. Не скрывали это и лица, работающие на эту власть. Так, замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин с откровенным цинизмом публично заявил: «Отделение [РПАЦ] от РПЦ стало одиозным расколом. И вслед за расколом Московский патриархат начал предпринимать определенные действия против РПАЦ. Сейчас РПАЦ ликвидируют как явление. Для этого надо изъять основные ресурсы храмовые здания и святыни. Если нет храмов и святынь, то это малозаметная организация».
Итогом этой кампании было решение того же Арбитражного суда от 17 мая 2012 года об изъятии о РПАЦ мощей русских святых Евфимия и Ефросиньи с передачей их истцу - ... той же светской, государственной организации, называемой Владимирское Территориальное управление «Росимущества». Судья И.Бутина уже участвовала в судебном фарсе, когда отнимались церкви у РПАЦ.
Это событие получило широкий отклик по всему миру. Впервые в истории государство заявило свои претензии на «костные останки» - так говорилось в заявлении истца. Впервые в истории суд поддержал эти претензии на владение «костными останками», как они названы в заявлении истца.
Сфабрикованность дела была хорошо известна задолго до слушания. Во-первых, истец обратился в Арбитражный суд, то есть в суд, который своей первоочередной задачей, согласно статьи 2 АПК, имеет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных инстересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность.
Какую предпринимательскую или иную экономическую деятельность проводила РПАЦ с мощами святых? В каком кодексе или законе о предпринимательстве указано, что мощи святых могут стать предметом экономической деятельности? Испокон веков мощи являются предметом веры, молитвы, поклонения. Вот почему православные идут в храмы и несут свои молитвы к Богу перед ними. Так было и все годы, что мощи святых Евфимия и Ефросиньи находились во владении РПАЦ.
Сам истец, Владимирское терруправления «Росимущества» (все тот же В.Горланов) и судьи Арбитражного суда оперировали термином «костные останки». Т.о., государство заявляло свои права на кости людей, которые жили 600 и 800 лет назад! Но тогда не было ни организации «Росимущество», ни самого государства РФ, ставшего преемником воровского СССР. Никаких документальных доказательств законного владения «костных останков» государством не было представлено. Также не было доказано, что «костные останки» имеют какое-либо историческое или культурное значение.
Настоящие мотивы этого антиконституционного, дискриминационного, а с православной позиции, противобожного деяния властей РФ, хорошо известны. Это параноидальное стремление властей уничтожить РПАЦ, которая стоит за Христову Истину и не идет на компромиссы с безбожным государством РФ. РПАЦ несет людям свет Христовой Истины, вечных ценностей христианского учения, ведет их ко спасению душ для жизни вечной.
Само существование РПАЦ является постоянным укором МП РПЦ, организации, которая погрязла в коррупции, симонии, ересях, моральном разложении и духовной пустоты. Московская патриархия в последнее время превращена в своего рода идеологический отдел администрации президента РФ, она стала частью государственного подавления и порабощения граждан РФ.
Государству РФ и его идеологическому аппарату в форме МП РПЦ нужно во что бы то ни стало уничтожить РПАЦ. Спор о мощах святых Евфимия и Ефросиньи это не столько спор о самих «костных останках». Задача безбожной государственной машины РФ, федеральных и местных властей совсем иная уничтожить приходы, разрушить веру людей. Недаром госчиновники, после изгнания верующих из церквей, заявляли: у вас нет церквей, значит, и ваши приходы не существуют, а без приходов нет и церкви.
Но приходы РПАЦ это люди, а Церковь Христова в сердцах верующих. Преследуемые за веру в Христа, прихожане только укрепляются в своей вере и сплачиваются вокруг Церкви, которой сам Господь сказал: "Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (Матф.16: 18).
Сегодня, я от лица гонимой и преследуемой российскими властями Церкви Христовой обращаюсь ко всем истинно-православным русским церквям, как-то: РИПЦ (архиеп.Тихон Пасечник), РПЦЗ(А) (митр.Агафангел Пашковский), РосПЦ(А) (митр.Антоний Орлов), РПЦЗ(В-Ан) (архиеп.Антоний Рудей), РПЦЗ(В) (архиеп.Владимир Целищев), РосПЦ (митр.Дамаскин Балабанов), РосПЦ(В) (архиеп.Виктор Пивоваров) и др. Братья, на ваших глазах идет кощунственное уничтожение Православной веры. Не различия между нами, но вера в Господа нашего Иисуса Христа должна стать основой нашего единения перед лицом страшной опасности. Сегодня они пришли за нами, завтра они придут за вами. Я призываю вас о помощи во славу Господа нашего. Обращайтесь к прихожанам, говорите между собой, пишите в СМИ, требуйте остановить дискриминационную политику властей РФ против православных христиан.
Я обращаюсь также к национальным поместным цервям истинно-православных, к первоиерархам и клиру, к монашеству и мирянам Украины, Молдовы, Белоруссии, Болгарии, Румынии, Греции. Нам нужна ваша помощь, ваши молитвы, ваша поддержка против врага сильного, безбожного, безчестного. Каждое ваше слово, каждая молитва, каждое публикация и соборное решение для защиты РПАЦ во славу Господа нашего. Мы ждем вашей помощи, вашего духовного стояния, вашей веры да помогут они нам в годину испытаний.
Как американский гражданин, чьи предки жили в этой стране с 18 века, я обращаюсь к моему правительству, к Президенту США, к Конгрессу, к руководству Государственного департамента: в РФ проводится государственная политика дискриминации РПАЦ, истинно-православных христиан, по религиозным основаниям. Власти РФ грубо нарушают собственную Конституцию, свои Законы, как гражданские, так и судебные, они нарушают основные права человека, прежде всего право любого гражданина на свободу вероисповедания, на неподкупный и справедливый суд, на жизнь без страха и угроз. Я призываю вас сделать все возможное для защиты фундаментальных прав человека в Российской Федерации, используя международное право, дипломатические, финансовые и гуманитарные возможности нашего великого демократического государства.
Да поможет и благословит Господь всех нас!
Епископ Андрей Павловский
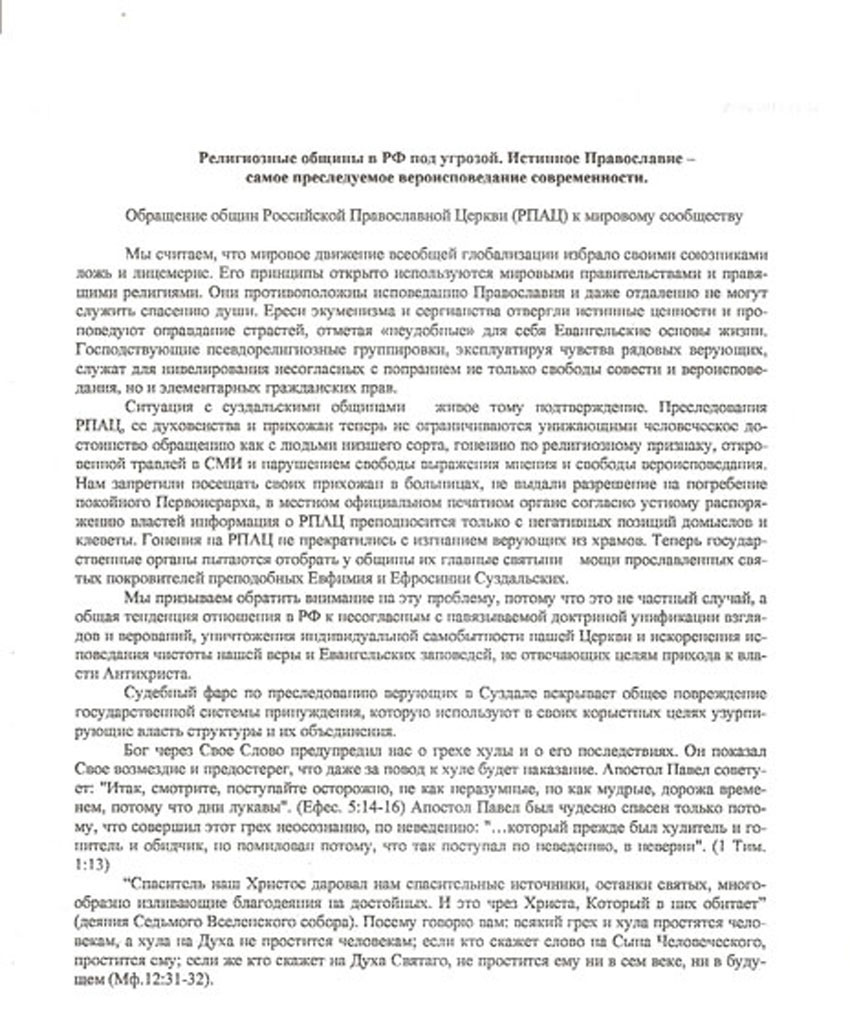
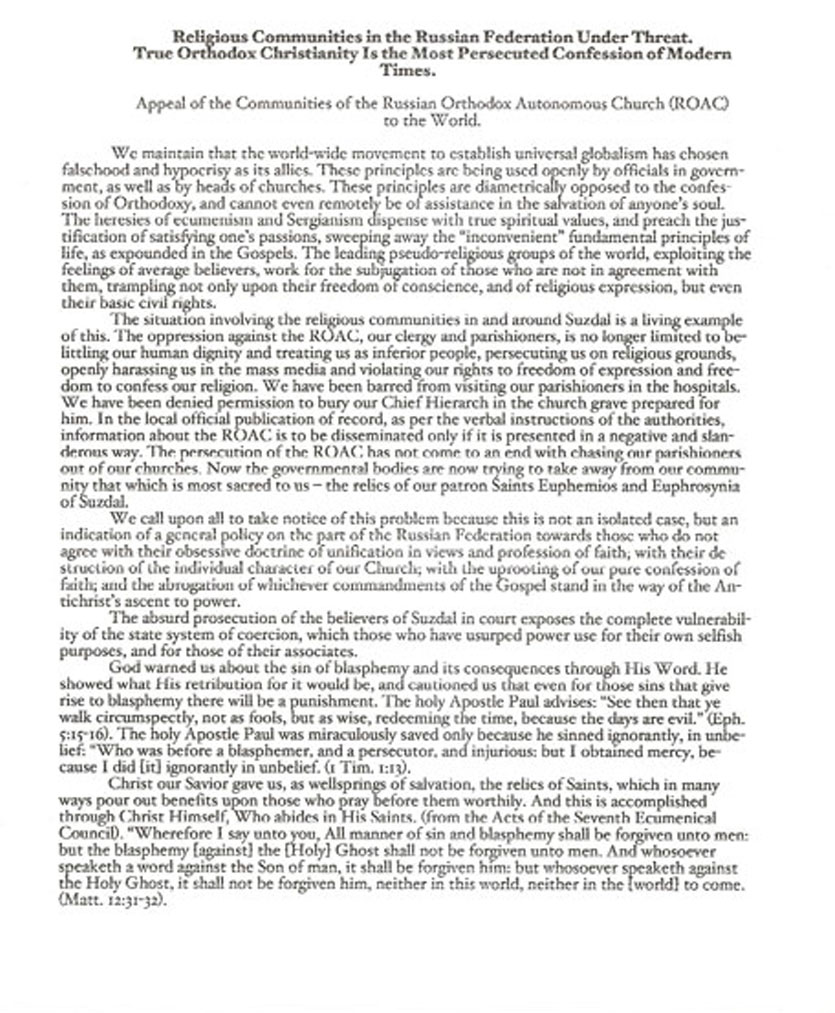
ЧТО ИМЕЕМ НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯВШИ ПЛАЧЕМ
Иосиф, Епископ Вашингтонский
В этой народной русской пословице заключается мудрость Русского народа, и эту пословицу употреблял на лекциях, один из отцов Зарубежной Церкви в золотой период Свято-Троицкого Монастыря и Свято-Троицкой Семинарии, Профессор Иоанн Михайлович Андреевский; желая подчеркнуть, что именно так, была потеряна, русской либеральной интеллигенцией в XIX веке, - Православная Русь.
Он подчеркивал, что более 90% русской интеллигенции не соблюдали посты, открыто пренебрегая правилами и учением Св. Церкви и жили только внешними обрядами.
Преп. Серафим Саровский (+ 1833 г.) говорил, что Русское Царство шатается; и это было сказано, когда на Императорском Престоле был Императором Николай 1-й. С не-церковной точки зрения это казалось абсурдом; но это подтверждали Святители: Феофан Затворник, свят. Игнатий Брянчанинов и другие отцы Церкви, которые видели духовную сторону жизни и истории. Результат показался на лицо в 1917-18 гг. когда обнародовали отречение Св. Николая II-го (я не уверен, можно ли действительно назвать этот документ отречением или кем-то написанным от Его имени ) и нигде в Великой Империи не слышно было протестов или какой-то поддержки для Императора Николая 2-го и Его Семьи; но наоборот один из Великих Князей сразу забрал охрану у Царской Семьи оставив их «на улице» с несколькими верными до конца слугами.
На этот странный эффект; указывали отцы Зарубежной Церкви как, например измены присяги Императору.
Все вышеуказанное довольно ясно подчеркивает то, что идеологию монархии подтачивали темные силы масонства и иже с ними уже давно: начиная с эпохи ренесанца и кончая французской революцией. Святые отцы Православной и Русской и Вселенской (которая еще была Православной) подчеркивали важность духовного бдения во все времена и это относится и к нашему времени особенно.
В наше время, когда атаки на Св. Православие и на духовную жизнь, которую Св. Церковь проповедует и подчеркивает усиливается с молниеносной быстротой, но реакция на это из разных «православных» кругов довольно не ясная. Один из примеров это «сергианство», которое как ересь автоматически подпадает под анафему Св. Церкви, и советская патриархия, которая всегда держалась за эту ересь, сама подпадает под анафему, как это Св. Патриарх Тихон провозгласил уже давно, и что подтверждали наши Первоиерархи Митрополиты Антоний, Анастасий и Св. Филарет и др. иерархи.
Я поставил слово «православный» в кавычки, чтобы подчеркнуть то, что право-верующим может быть и есть тот кто, по объяснению Св. Кирилла Иерусалимского, верит и живет этим учением, т.е. есть православные по духу, и есть православные по имени только. Как раз наше время и подчеркивает эту истину и это не зависит от иерархической степени человека к которому это относится. Св. Митрополит Филарет ясно описал в своем письме к о. В. Потапову.
Об этой «невидимой брани», создается впечатление, что мало говорят и обращают внимание современные «православные» с желанием по больше людей привлечь к себе. Желание очень хорошее, но стоит напомнить слова Спасителя « но Сын человеческий, придше, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8).
Количество на первом месте, а качество на втором. Об этом громко и грозно говорили блаженной памяти Архиепископ Аверкий в своих проповедях и блаженной памяти Архимандрит Константин в «Православной Руси» золотого века РПЦЗ, которые теперь не вспоминаются и заменяются ныне интернетной (электронной) белибердой. Нужно возвращаться к учению св. отцов Церкви и РПЦЗ и Вселенской, а не жить интернетом.
Здесь стоит вспомнить интересную статью, которую написал, я так думаю, Епископ Иоанн Южно-Американский, когда начались лихорадка занятия интернетом, о том, что в начале времени, когда Деница восстал против своего Творца и был, свергнут «с Неба» (т.е., из духовного мира), то где он со своими духами обитает? Из духовного мира он изгнан как дух и не может там жить, он дух злой, но по природе все же дух, он может на земле жить в воздухе, но это не его среда (окружение), как и каждое живое существо, даже полное злобы и зла, хочет найти более удобное для себя существование.
И вот существует Богом установленная граница между духовным миром и физическим метафизическая граница. Если принять объяснения Einsteina в которых материя начинает терять свои физические свойства, чем ближе по быстроте она (физ. Ее часть) при приближении к быстроте света.
И вот в эту метафизическую полосу (если так можно выразиться) и попадает модерный интернет, в который компьютерные системы вошли благодаря своей быстроте.
Но дело не в компьютерах, а в том, что для духа интернет представляет самую удобную среду существования, из всех возможных Перед тем как люди попали в область метафизики диавол мог быть там раньше, и людей диавол принял как хозяин со всеми «привилегиями» и «последствиями» (стоит вспомнить выражение «Сатанократия» употребляемым Свят Митрополитом Филаретом).
Если обратить внимание на все выше сказанное, то отсюда легко следуют ответы, но то, почему иногда интернет работает, а иногда «вроде без причины, «капризничает».
Отсюда легко можно сделать вывод, что информация по интернету и через интернет, особенно богословско-догматическая и церковная и связанные с нею выводы должны просеиваться через сито веры.
Не даром блаженной памяти Архимандрит Константин назвал Советскую систему СССР сатанократией, так как там где диавол заведует всем и позволяет для виду и вроде проповедовать результат всегда будет один будет то, что ему нужно.
Имеяй уши слышать да слышит.
ПИСЬМО ИЗ РОССИИ:
УЧАСТЬ БЕЗУМНЫХ, ОТНИМАЮЩИХ СВЯТЫНИ
Дорогая редакция «Верности», здравствуйте.
Мы, я и моя семья, проживаем в городе Рязань. Это старинный русский город, известный своей древней историей, знаменитым кремлем, церквями и добрыми традициями. Моя двоюродная сестра живет в городе Владимире, и поэтому мы в курсе всех дел, что там происходят по поводу суздальской церкви (РПАЦ Ред). Мы с возмущением узнали, что у верующих суздальцев отняли их храмы, а в настоящее время судами отбирают мощи святых. У нас в Рязани было что-то похожее на это пять лет назад, только все обернулось по-другому. Тогда директор музея-заповедника не согласилась с передачей части музея РПЦ (МП РПЦ Ред.), и после большого сканадала была уволена.
По нашему мнению, она не сообразила вовремя, что РПЦ это государственная организация, часть государства. Поэтому поплатилась. Нам-то понятно, что и церкви суздальцев, и мощи, - все будет передано той же РПЦ.
Теперь я хочу рассказать, ради чего решил написать вам.
О чем думают начальники в РПЦ, которые захватывают храмы и мощи? Что они смогут на этом заиметь лакомые куски? Что в эти захваченные ими церкви пойдут люди, будут оставлять взносы? Что мощи святых привлекут паломников? Значит, опять выгода! Они забыли историю, а в истории много поучительного.
Рязанская ЧК с 1918 года проводила карательные акции против крестьян, против верующих в Касимове, Шацке, Сапожке и других городах и многих селах нашего края. Убивали многих священников. Об этом люди не забыли даже во времена великого террора и после. В одном селе под Касимовым отряд карателей разгромил крестьян, захватил село, ограбил хозяйства, а местную церковь, которая строилась на народные деньги, просто ободрали: вынесли все их нее, утварь, иконы. То есть я хочу сказать, что творили то же самое, как и в Суздали в наше время.
Все, что было ценного, навалили на подводы и ушли назад в Рязань. Начальнику отряда почему-то понравилась одна икона. Это была икона Божьей Матери, очень красивая. Она считалась чудодейственной, так как имела силу исцелений, и много исцелений произошло прямо в церкви. Но чекисту, который был атеистом, не сама икона нужна была, а богатый серебряный с каменьями оклад, то есть ризы. Он ризы оборвал, камни выколупал, а икону сунул в чулан в своем доме. Почему он не выбросил ее или не разрубил и не сжег, как они всегда делали, неизвестно. Только известно, что она у него в доме была.
Не прошло и двух месяцев, как жена чекиста вдруг запылала в тифу или сухотке. Три дня, и женщины не стало. У чекиста был сын, подросток. Только схоронили мать, как он куда-то поехал на бричке, упал, ударился головой о камни на мостовой, и скончался.
Чекист опять ничего не заподозрил. Возможно, стечение трагических случаев. Но тут к нему из Москвы приехал брат, сам советский и партийный туз. Был назначен самим Лениным в Рязань. Пошел на митинг в железнодорожное депо, и надо же такому случиться, ему вагон перерезал ноги.
В ЧеКа работала уборщица. Она была верующая и прослышала о событиях. Однажды не побоялась и обратилась к чекисту: а не от иконы ли все получилось?
Чекист разозлился и приказал женщину в тюрьму посадить. Ее посадили, только на второй день после, сам чекист был найден в своем кабинете, висел на веревке в углу. Самоубийством покончил счеты с жизнью, так получается.
Ту женщину, уборщицу выпустили за недоказанностью никакого преступления. Ей же икону Богоматери отдали. Эта икона опять стала чудодейственная, только поцелуешь ее, и вся худоба сходит, только прикоснешься рукой, и вылечиваешься. Верующие ее теперь стали прятать и все время передавали из одной церкви в другую. Так она, говорят, находилась Успенском кафедральном соборе, пока его не взорвали в 1937 году, оттуда она попала в Троицкий монастырь, где потом был завод автомобильной аппаратуры, позже еще где-то.
Как рассказывал мой дед, эта икона была скрыта верующими, потому что в 30-е годы начались репрессии. Сотрудники органов разыскивали ее хитроумным способом: выясняли, кто внезапно излечился от тяжелой болезни. Двое, трое или четверо в каком-нибудь квартале исцелятся они туда, там должна быть икона. Когда они таким образом нашли ее, то начальник НКВД по Рязани взял ее себе.
Фамилия его была Корнильев, он был образованный человек. Что-то тянуло их всех к этой святыне. Так наверное, всегда влечет убийц на место совершенного преступления. Корнильев не был исключением. Но икона не изменила себе. Через десять дней Корнильева арестовали и увезли.
Мой дед тогда работал в кочегарке, которой отаплились квартиры сотрудников УНКВД, устроенных в массивных стенах Скорбященской церкви. К нему попала эта икона: ему притащили какое-то старье, и среди них эта покрытая олифой доска. Приказали все сжечь. Он икону сохранил.
Ей молились в маленькой общине, которая всегда существовала около Скорбященского кладбища. Когда я был еще совсем несмышленыш, я видел эту икону. Она была чудодейственная. Однажды, как рассказала моя мать, умирала одна женщина от послеродовой горячки. Это было в середине 1950-х. Ей прямо в районную больницу принесли эту икону, стали читать молитвы, и нечаянно прикоснулись к ней самой доской. Вдруг температура у нее пошла вниз, через полчаса она встала с постели и стала молиться вместе с другими. Эта женщина прожила долгую и счастливую жизнь, родила еще трех детей, пережила мужа, помогала детям поднимать внуков, скончалась в 2009 году.
Известен другой случай. Молодой парень, родственник одной богомолицы, был ложно обвинен в краже и попал в следственный изолятор. Его тетка, богомолица, ухитрилась передать ему молитву, написанную на тетрадном листке. Эту молитву, как мне говорил дед и мама, всегда произносили перед иконой. Парень, до того бывший безразличным к вере, стал молиться и даже выцарапал на цементной стене изображение Богоматери, как помнил по иконе, которую видел у тетки. Прошло две недели. Вдруг парня вызывают на допрос. Там сидит старший лейтенант милиции, на самом лица нет, будто что-то ужасное в жизни увидел. Подает парню ручку: следствие закончено, вины твоей не найдено, распишись и можешь идти. Никаких объяснений. Не было после того более горячего богомольца, чем этот парень.
Когда Хрущов объявил новый поход атеистов против веры, то нашелся предатель в группе. Пять человек было арестовано, книги и иконы, другая церковная утварь конфискованы. Так икона опять скрылась от нас. Тот предатель однако плохо кончил. У него открылся рак мозга. Он мучался несколько лет. Мой дед ходил к нему и говорил, что лучше бы ему не родиться, чем предать Божью Матерь, так он мучался.
Возвращаясь к мощам святых в городе Суздали, я хочу сказать, что люди, которые отбирают святыни от верующих, могут попасть под заклятие Господа. Тогда им уже ничего не поможет. Кто верит в Бога всем сердцем, тому наши святыни в добро, поправку дел, избавление от недугов. Зато кто хочет бизнес на них сделать, урвать кусок, как говорится, тому даже целительная икона может принести только болезни, потерю родных и близких, и под конец, преждевременную смерть.
Пускай об этом подумают власти. Им кажется, что они могут сделать, что угодно с людьми. Но над всеми нами есть Бог. Для Него ты что власть, что президент или епископ, все одно. Ты хочешь разрушить веру у людей, значит, ты против церкви Христа, несмотря что с [церковным] чином или в больших тузах. Расплата будет ужасной, и эти мощи святых, как знать, не станут ли они причиной смерти чиновника или епископа или священников РПЦ, которые совсем потеряли совесть.
Об этом я хотел бы напомнить тем, кто рассчитывает на обогащение за счет мощей или икон или других христианских святынь. Между прочим, паломники, если они верующие, к таким, захваченным по суду мощам, не пойдут. Кто же пойдет, тот может разделить участь безумных властей, неправедных судей и других, о которых я рассказывал.
Л.C.
Рязань, Россия.
О СУХИХЪ КОЛОДЦАХЪ
Вадим Виноградов
Владимир Михалыч Гундяев, 24 мая 2012 в день святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, с чувством, с толком, с расстановкой произнес на самой Красной площади при большом стечении народа следующие слова, а канал Россия разнес их по всей стране,:
Культура формирует образ мыслей и образ жизни человека.
Культура формирует общественные отношения.
Культура влияет на законотворческий процесс.
Культура определяет способность людей работать,
жить вместе, сотрудничать, защищать Отечество.
Культура формирует личность.
Но вот, как эти откровения духа нашего времени предварил святитель Николай Сербский, епископ Охридский и Жичский, память которого весь Православный мир совершает 20/3 апреля/мая:
Пастыри и старейшины народные оставили Христа Бога, как вечно свежий и здравый источник воды, и начали по примеру еретических и безбожных народов, копать сухие колодцы и собирать дождевую воду. Сухие колодцы они назвали культурой и цивилизацией, или наукой, или модернизмом, или прогрессом, или модой, или спортом и так далее.
И вот грешные и мрачные люди отреклись от Христа, вечно Живого и Животворящего, а вместо Него выдвинули культуру. Выдвинули, значит, несчастные, что-то изменчивое и преходящее - пестрое, как гадюка обыкновенная, навязчивое, как блудница, жестокое, как дикий вепрь, хищное, как лисица, кровожадное, как волк.
Отвергнув Христа, новые язычники поставили на опустевший Христов престол своих философов, ценящих культуру выше, нежели правду, честь и геройство.
А понимание культуры у них состоит в почитании твари, то есть видимой природы, и в служении ей более, нежели Творцу природы. Смертные боги и обожествленная природа.
Тысячи книг они издают ежегодно во славу великих людей и в похвалу своей культуре, тысячи газет у них ежедневно оказываются на службе той же преходящей ложной славе и на службе восхваления дел человека под надутым именем «культура».
Они вознесли себя выше Бога Всевышнего, стали обожествлять сами себя и свою культуру, дела рук своих.
По пути этих поклонников культуры, новых идолопоклонников, пошли и многие сыны русские. Отрекаясь от Христа, они навлекли гнев Христов на свой русский народ.
Есть единственный способ, как вернуться к Христу. Он в том, что вы всюду по всей стране вычеркнете слово культура и вместо него поставите слово Христосъ.
Здесь мы прервем Святителя Николая, чтобы сообщить ему, что в сей просторной речи господина Гундяева на Красной площади слово Христосъ не было произнесено ни разу. Да, там имели место выражения, подобно этому: Нашим с вами культурным началом стало слово Божие. Но Христосъ При таком стечении народа, похоже, что этого делать никак нельзя, ибо будет нарушена незыблемая ныне толерантность!
Но святитель Николай ещё не закончил свою защиту Христа:
Чего мы, как христианские народ, просили у нашего Бога?
Возьмем, прежде всего, молитву Отче наш.
Как видите, мы никогда не просим Бога, да и не просили, чтобы дал нам культуру или цивилизацию.
Возьмем ещё просительную молитву, которую священник читает в церкви, а мы отвечаем: Подай, Господи! Чего мы просим у Господа, чтобы послал? Мы Творцу нашему молимся не о том, чтобы дал нам культуру и цивилизацию, а совсем об ином, определенно более важном и более нужном. Никогда наш священник не просил Господа даровать культуру или цивилизацию, и никогда разумный, рассудительный народ не обращался за этим к Богу: Подай, Господи!
То же самое с остальными молитвами. Имеются молитвы о здоровье людей, о воспитании детей, о путешествующих, о страждущих и скорбящих, а вот молитвы о культуре нет.
Имеются ещё молитвы против злых духов, против еретиков и безбожников, против злых ветров и наводнений - только в ряд этих защитительных молитв ещё не занесена молитва Богу против культуры.
И не будет ничего удивительного, если Церковь предпишет молиться против культуры, как совокупности всех зол. Ибо если есть молитвы против гордыни, против ненависти, дикости, безбожия, ересей, насилия, грабежа, против всякого богохульства и всякой бесчеловечности, то почему не быть молитве против культуры, как совокупности всех этих зол? Такая молитва была бы не только оправданной и нужной, но, думается, следовало бы установить и государственный молитвенный день в году, когда бы весь народ со своими старейшинами молился Богу и Господу о спасении от культуры.
Ведь культура - это новое язычество, новое идолопоклонство. Когда одурманеные диаволом народы избавятся от этого новейшего почитания идолов, только тогда они начнут сокрушенно, с воздыханием молиться Богу Живому в Троице - Отцу и Сыну и Святому Духу.
За что святой праведный Iоаннъ Кронштадский мог обвинить нас пред Богом? Во-первых, за школы без веры.
За школы, в которых изучение величайшего русского явления Новомучеников и Исповедников российских и Закона Божиего заменено изучением холокоста и Основами религиозных культур.
О ВОЗРОЖДЕНИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
Николай Смоленцев-Соболь
Объединение РПЦЗ и МП РПЦ не только предательство, как его совершенно правомерно определили лучшие умы Зарубежной Руси. Пресловутое «объединение» это также перелом, очищение, катарсис, особенно в области православного осмысления роли Церкви в обществе, переоценки значимости и роли тех или иных лиц.
Нетрудно заметить, что с начала девяностых годов прошлого столетия церковная публицистика полностью попала под влияние таких как Лавр Шкурла и «инока» Всеволода Филипьева.
Оба были экстремальными случаями посредственности, личностной серости, вероисповедальной теплохладности и творческой безталанности. Первый никогда ничего не писал и потому ничего не оставил после себя. Не только нет его проповедей, но даже примитивных бытовых записок или мнений по каким-либо церковным вопросам.
Второй, Филипьев, писал много. Статьи, обзоры, богословские разъяснения, свято-отеческие переложения, стихи на религиозную и политическую тематику. К сожаленью, плодовитость Филипьева отражалась в его крайне низком графоманском уровне. Его личная нечистоплотность, лицемерие и двойственность не могли быть скрыты от внимания православного читателя.
Увы, эти двое, Шкурла и Филипьев на какое-то время заняли положение «властителей умов» - то ли по иронии судьбы, то ли по попушению Господню, то ли по сценарию их закулисных хозяев. Результат их работы известен: зарубежное русское богословие было низведено до уровня примитива, официальная историография РПЦЗ остановилась, сама церковно-православная культура подверглась гангренозному гниению. Выдвижение в РПЦЗ на первый план таких лиц, как Марк Арндт, Михаил Донсков, Серафим Ган, Кирилл Дмитриев, Виктор Потапов, Александр Лебедев, Гавриил Чемодаков, Иларион Капрал и других подобных яркий симптом такого гниения.
После мая 2007 года, однако, на наших глазах произошло чудо, которое мы едва-едва начали осмыслять сегодня. От мертво-гниющего Синода РПЦЗ (Л) отошли так называемые «осколки» Зарубежной Церкви. Неожиданно в самих недрах Зарубежья оказалась жива богословская мысль, боговдохновенная традиция Христовой Церкви. Первыми ростками можно назвать статьи мирян: проф. Г.М.Солдатова, Н.Казанцева, В.Мосса и др. Казалось бы полностью убитая церковная публицистика возродилась в ранних выступлениях протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого, а затем в ярких, живых, блестящих статьях еп. Иосифа (Гребинки) и в последнее время в таких же выдающихся выступлениях еп. Андрея (Маклакова).
Оба последних стали звеньями непрерывной цепи истинно-православного учения, миссионерского горения и убеждения, твердости в отстаивании православных идеалов. Это идет от старой доброй русской школы 12-19 веков, а в минувшем веке - от церковной теории и практики Зарубежных светочей: Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого), Митр. Анастасия (Грибановского), Святого Митр. Филарета (Вознесенского), Святого Иоанна Шанхайского, архиеп. Аверкия (Таушева), архим. Константина (Зайцева), от трудов протопресв. М. Помазанского, прот. Михаила Польского, прот.С. Слободского, И. Концевича, И. Андреевского, Н. Тальберга.
Искусно подготовленный и проведенный обрыв этой традиции при первоиераршестве митр. Виталия (Устинова) вышеупомянутыми Шкурлой, Филипьевым и некоторыми другими, не достиг своей цели. Прежде всего потому, что оказалась нить, связующая эпохи, - труды еп. Григория (Граббе), которые в прошедшее пятилетие получили огромное признание среди истинно-православных.
Сегодня мы можем только восхищаться прозорливостью и канонически точным обоснованием выводов владыки Григория по самым животрепещущим вопросам церковной жизни. Прямое влияние его, например, на еп. Андрея (Маклакова) неоспоримо владыка Григорий был идейным вдохновителем создания Русской Православной Автономной Церкви и духовным наставником тогда еще иеромонаха Андрея.
Духовное наследие еп. Григория (Граббе), вобравшее в себя полноту отечественного дореволюционного и зарубежного эмигрантского богословия, прослеживается в умных, горячих, православно-страстных статьях еп. Иосифа (Гребинки), на наш взгляд, одного из самых интереснейших и серьезнейших представителей свято-отеческой публичной словесности начала 21 века.
Но и это не все. К изумлению многих, возрождение духовной публицистики дало всходы и в закабаленной России. На первом месте мы поставим статьи-откровения мирянина Вадима Виноградова, которые регулярно выходят в электронном издании «Верность» (гл. ред. Г.М. Солдатов), в газете «Наша Страна» (гл. ред. Н.Казанцев), распространяются по десяткам интернетских сайтов, блогов, порталов.
Читая Виноградова, любой православный восхищается чистотой слога, глубиной подхода, той свободой мысли, которая присуща этому автору. Нередко задаешься вопросом: где живет он? Неужели в том самом цинично-бездуховном мире путинской Системы, в котором люди подвергаются гонениям за веру в Бога, их церкви подвергаются поджогам, грабежам, вандализму, самих их избивают, оскорбляют, судят судом неправедным.
Парадокс, но это так. Вадим Виноградов, знаменитый на весь православный мир кино-режиссер, публицист и мыслитель, по-видимому, слишком крупная фигура, чтобы шавки путинско-гундяевского толка осмелились броситься на него. Его статьи, как и фильмы, пронизаны таким ярким и чистым светом веры в Христа, что еретикам-безбожникам МП РПЦ просто нечего сказать в ответ. Мы же в Зарубежной Руси можем только хвалить Господа за Его безмерную щедрость: даны Вадиму Виноградову и талант русского слова, и дар исповедничества, и смелость истинно-православного христианина.
Прочитайте, а если уже читали, то перечитайте его статьи: «Плач об унии», «О новомучениках и исповедниках российских», «Скрижаль ХХI века», «Христова Пасха, принесшая свободу», «Часики патриарха»...
Последняя начинается с того, чем в обычной повседневной публицистике авторы заканчиают свои статьи выводом: «Часики патриарха - это малюсенькое внешнее отражение всеобъемюлющей любви мiра теми, кто давал обещание служить Богу, кто знает, что мiръ во зле лежитъ, знает, что кто любитъ мiръ, в томъ нетъ любви Отчей, но у кого забота века сего и обльщенiе богатствомъ заглушили любовь Отчую, заглушили обещание не любить мiръ. И привели к тому, что вместо служения Богу, как обещались, стали служить мiру, прикрывая это служение, служением, якобы, Богу. Вот, что вскрывают часики патриарха...»
Голос В. Виноградова это голос неугасшего православия в порабощенной отчизне. Таким он является в своей кинематографии, таким остается в своей церковной публицистике. По большому счету, он художник русской культуры. Это означает, что он не просто наблюдает, оценивает, принимает или отвергает ценности русского культурного слоя. Он создает эти ценности, наращивает их. Впитывая великое наследие Святых Отцев, он отдает нам его в очищенном и одухотворенном приумножении. Такими были Св. Митр. Макарий Московский и протопоп Аввакум, Св. Митр. Филарет Московский, и Александр Пушкин, Николай Гоголь и Федор Достоевский.
Его статья «Монархия, XXI век» стала, не побоюсь признаться, краеугольным камнем в переосмыслении всех основных жизненных положений для тысяч русских. Ее перепечатывают и перечитывают по обе стороны океана. О ней говорят и спорят, ее популяризируют. Почему? Потому что в этой статье В. Виноградов изложил суть православного видения человека, гражданина, христианина.
Как обычно, автор сразу ставит проблему перед нами. Он начинает:
«Я живу только для России!»
К несчастью сегодня к этому взгляду присоединится немалое число честных и мужественных людей, православных в нынешнем понимании этого слова, живущих не только в РФ, но и за её пределами.
В то время, как для русского православия 1000 лет до ХХI века всегда было только одно единственное: Для того мы и живём, чтобы любовью соединиться с Господом на веки! Или различные варианты этого: Жизнь не для того, чтобы что-нибудь здешнее для здешнего сделать, а для того, чтобы научиться при всяком случае уничтожать свою волю перед Высшею.
И вот, настало время: Я живу только для России!
Подкрепляет такую цель жизни и патриарх МП, подтверждая: Вера России - в саму Россию. Заметьте, не в Христа, а в Россию!»
Как замечательно точно и безстрашно автор указал абсурд нынешнего состояния МП РПЦ, которая служение свое отводит от Господа, переводит в подчинение государству, чиновникам, стране, которую по странному неведению кое-кто до сих пор называет Россией.
Виноградов знает нашу историю прекрасно. Он понимает ее исключительно по-христиански. Естественный путь для русского православного человека это отказ от мирского, это приятие Христова. С самого начала нашего приобщения к великой Истине, со «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона (ок. 1050 года) это был тот единственный путь, которым мы пошли, как народ, потом как нация, как могущественная держава, а в наше время как малое стадо Христовых послушников.
Так замыкается цикл. От двенадцати и потом семидесяти к миллионам. А в наше апостасийное время от миллионов снова к немногим, имеющим смелость и талант, а главное, веру в Господа, нашего Спасителя. Таким является Вадим Виноградов, творчество которого символизирует новый подъем в руском православии.
Катаклизм 2007 года в русском православии высветил этот ход истории. Сошли на нет былые кумиры. Они не создавали нашу православную культуру, они пользовались ею, пожирая ее, насыщая свои утробы, отвращая православный люд от Света. Но Свет Господень снова рассекает глубины тьмы.
За упадком, как правило, следует взлет. Мы сегодня становимся свидетелями, как из самой пропасти, куда скатилась, сползла РПЦЗ, бывшая когда-то неколебимым столпом вероисповедания и исповедничества, поднимается новая заря Зарубежной Руси. Звучат новые имена все той же прекрасной, животворной свято-отеческой традиции Русского Православия. И значит, будет возрождение нашей Зарубежной Церкви.
Нью-Йорк,
Июнь 2012 года.
ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ОНИ НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ ДОБРО.
Г.М. Солдатов
Будучи построено на лжи, советское государство и правительство, не могут действовать без обмана собственных граждан и людей в других странах. Большевики обещали райскую жизнь на земле без Бога с равными для всех правами. На плакатах в школах СССР сообщалось: «Спасибо товарищу Сталину за счастливую и радостную жизнь!» и «Жить стало лучше, жить стало веселей!» а в это время миллионы людей страдали от голода, ссылались в концлагеря и расстреливались
Лживая советская пропаганда распространяла легенды в Зарубежной Руси о свободе Церкви в Отечестве, а в это же время храмы и монастыри взрывались, превращались в склады, клубы, антирелигиозные музеи и безбожники надругивались над мощами святых. Духовенство физически в Союзе уничтожалось. Чтобы сохранить свою жизнь митрополит Сергий заключил соглашение с богоборческой властью, согласившись, подчинив административную власть Церкви под контроль сатанистов. Верные Церкви духовенство и миряне, несогласные с предательством были вынуждены уйти как в первые века христианства в катакомбы.
Чтобы внести разделение в среду русских эмигрантов советские органы разведки устроили театр с поездкой по СССР бывшего депутата в Государственной Думе, Василия Витальевича Шульгина, который вместе с А.Г. Гучковым в Пскове принял манифест об отречении от престола Св. Императора Николая II в пользу Вел. Кн. Михаила Александровича. Шульгин вскоре после возвращения заграницу опубликовал в Берлине в 1925 г. книгу «Три столицы», в которой описал свои встречи с представителями подпольных монархических организаций в разных городах Союза и этим посеял надежду среди эмигрантов о скором свержении советской власти.
После второй мировой войны, жители Зарубежной Руси, были обмануты правительством и организованной Сталиным патриархией, принимая советские паспорта, переезжая на «Родину» которая «ждет».
На лжи, система обмана, продолжала существовать вплоть до распада СССР на республики, но и после когда коммунисты переименовали себя в демократов, то бывшие члены партии, работники КГБ, воспитанные на марксизме-ленинизме, т.е. на лжи не в состоянии жить иначе как с обманом, они также как диавол не в состоянии думать и делать добро.
Обокрав жителей РФ, члены правительства вместе с олигархами, сравнительно маленькая антиправославная и антирусская группа людей, решает в Отечестве о жизни и смерти людей и будущего Отечества. Бессовестные люди разрешают себе то, что не только не доступно, но и о чем даже не могут мечтать другие граждане как, например, строят и покупают яхты и дворцы в других странах. К этой группе принадлежат также неосоветский патриарх со своими сорока митрополитами, вводя в соблазн и трепет честных и христолюбивых священнослужителей и верующих, многие из которых задают себе вопрос: архиереи ведь монахи, и как таковые, они не могут иметь имущество, а у «владык» в МП собственные автомобили, дома, квартиры, торговые предприятия и даже фабрики. Как такое может сочетаться с церковными канонами? Они не похожи на духовных отцов русского народа, »какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему скорпиона» (Лк. 11, 11-12).
После развала СССР по всему пространству РФ восстанавливались и строились соборы и храмы, открывались семинарии и духовные училища, печаталась православная литература, устраивались паломничества к святым местам в Отечестве и на Святую Землю. Посещавшие Отечество духовенство и миряне, видя обманное воображаемое изменение отношения правительства к Церкви, не слушали Первоиерарха РПЦЗ Митрополита Виталия предупреждавшего, прежде чем действовать узнать о настоящем положении Церкви и не доверять золочением в РФ куполов церквей. Было принято решение Синодом РПЦЗ организации приходов в Отечестве, в надежде на то, что они смогут повлиять против введенных в патриархии ересей, она откажется от сергианства, экуменической работы и после этого может быть, возможно, созвав Собор Русской Церкви провести объединение обоих частей Русской Церкви.
Для приходов в Отечестве были хиротонисаны архиереи в Суздале и других местах. С радостью зарубежники узнавали о большом количестве открываемых в Отечестве новых приходов и предполагали, что миссия Зарубежной Церкви исполняется и неповрежденное православное учение, благодать и каноничность, сохранявшиеся бережно в РПЦЗ возвращаются в Отечество.
После мировой войны в Германии нацизм по закону преследуется, флаги, эмблемы, и песни партии Гитлера запрещены, грех перед другими народами был немцами осознан. Но в РФ красные эмблемы и флаги остались как прежде, коммунистическая партия виновная в гибели миллионов людей продолжает деятельность. Праздники преступного правительства по-прежнему празднуются, включая день кегебистов. Патриарх МП подобно кобре стерегущей клад даже защищает эти диавольские знаки борьбы против Бога. Вместе с неокоммунистами в Кремле и экуменистами он с митрополитбюро «против народа Твоего составили коварный умысел, и совещаются против хранимых Тобою» (Пс. 82, 4).
Свое отношение к Церкви эти люди не изменили и продолжают борьбу против Православия. Сталин изменил только метод борьбы, против Церкви приказав организовать патриархию, назвавши ее московской. Он использовал патриархию для спасения коммунистического правительства, но не русского народа.
Современный патриарх Кирилл и митрополиты МП были назначены на должности еще в СССР сергианами теми, кто посылал истинных духовных лиц и мирян в концлагеря и на смерть. Они были тщательно проверены в надежности коммунистической партии, прошли обязательные курсы марксизма-ленинизма, зная его на зубок. Они прежде сотрудничали с органами разведки, и не были смещены с кафедр после развала СССР на республики, как это произошло с духовенством в некоторых других странах восточной Европы, бывших под властью коммунистов. Наоборот, неокоммунистическое правительство РФ, сотрудничая с патриархом и митрополитбюро, вместе занимаются внутренней и внешней политической деятельностью. Сергианская симфония государственной и патриархийной власти настолько связаны, что невозможно различить, когда и где и в чьих интересах что - либо делается. Например, постройка новых храмов в странах, где почти нет русских? Это делается с миссионерскими целями, или для помещения при храмах резидентов разведки? А там где живут русские, производится постройка нового храма, в то время, когда в уже имеющемся, почти не достаточно верующих для содержания прихода для чего это делается МП?
После усердных трудов лично президента В. Путина и патриарха Алексия II, была присоединена часть Зарубежной Церкви к патриархии, но теперь, как и прежде, в Зарубежной Руси административного объединения их не произошло, а управляются они отдельно. Что это объединение дало объединившейся с патриархией части Зарубежной Церкви ничего, кроме потери благодати, каноничности и доверия верующих, внесении в семьи верующих разлада, вражды между эмигрантами, занявшими различное отношение к «унии». Для руководства патриархии и правительства РФ это объединение дало много для патриархии часть утерянной при Сталине каноничности, а неокоммунистическое правительство получило возможность в сотнях новых мест, проявлять свое тлетворное влияние на русских в эмиграции и местных жителей, получив возможность при храмах иметь явочные места для встреч агентов.
Но как члены правительства, так и митрополитбюро не заботятся о Православии, они часто даже выступают против него, как они делали это прежде в СССР. В РФ действуют многочисленные инославные и протестантские миссионерские организации. МП от них не защищает православный народ, даже наоборот, сотрудничая в экуменической работе с враждебными Православию религиозными организациями, руководство МП говорит о необходимости по отношению к иноверцам толерантности.
Но о толерантности как патриархия так и неокоммунистическое правительство забывают когда вопрос в РФ относится к тем православным, которые не находятся под административным управлением МП. В Суздале находится Синод Российской Православной Церкви (РПАЦ) в котором после развала СССР были сотни приходов под пастырским печением Архиереев и многочисленных священников. Как Владыка Григорий (Граббе) так и его сын Епископ Антоний и другое зарубежное духовенство считали, что это каноническая и безупречно независимая от государства Русская Церковь в Отечестве. Но как коршуны руководство патриархией и чиновники неосоветского правительства ведут с Суздальской Митрополией борьбу. Они пользуются для преследования и полного уничтожения Митрополии всевозможными нарушающими конституцию РФ и прав человека методами, тем более что в их власти возможность составлять и предъявлять новые законы, согласно которым можно угрожать, забирать и передавать имущество МП или другим организациям. Борьба против православных приходов истинных христиан производится по всему пространству РФ. В пасхальную ночь в Московском приходе в честь Новомучеников и Исповедников Российских был устроен погром. В ночь с 24-25 апреля в 4-й раз поджигался Вознесенский храм в Барнауле. Такие враждебные многочисленные антиправославные происшествия, напоминают времена борьбы с Церковью Е. Ярославского и организации комсомольцев-безбожников. Но это и не удивительно при современном в РФ скорпионоподобном правительстве и руководстве патриархией!
ПЯТИЛЕТИЕ ПРОШЛО, А ТЕПЕРЬ -ЧТО?
Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
Итак, прошёл день 17 мая, скорбный день пятой годовщины слияния части Зарубежной Церкви с Московской Патриархией. Делегация деятельных сторонников этого гнусного предательства с Марком, Донсковым, Иларионом, Ганом, Лебедевым в качестве главных архитекторов этого мероприятия побывала в Москве, послужила с Кириллом Гундяевым, послушала разные доклады и всевозможные приветствия, похлопала руками и разъехалась. А теперь что ? Что дальше ?
Можно было надеяться, что этот пятилетний рубеж, предложенный для сомневающихся как-то подействует и в последний момент некоторые отшатнутся, прозреют и поймут, куда их вовлекли. Никакой информации о таких прозрениях до сих пор до нас не дошло, хотя по некоторым слухам некоторые священнослужители всё ещё противятся тому, чтобы поминать Кирилла Гундяева.
Можно сейчас подвести итог торжествам в России. До того в 2007 году уния части РПЦЗ с МП явила собой чуть ли не одно из главных происшествий года в жизни Российской Федерации, до того в этом году "торжества" пятилетнего юбилея прошли безцветно. Просто отметили дату. Событие явно не задержало внимание общественности. Период страстного интереса среди простого населения прошёл, а в церковной части народа большею частью не скрывается разочарование : не только не удалось покончить с Зарубежной Церковью, которая продолжает процветать и не даёт сергианам покоя, но всем ясно, как весенний день, что та часть РПЦЗ, которая, можно сказать «с потрохами» сдалась МП, имеет самое далёкое отношение к тому, что десятилетиями считалось крепостью и эталоном Православия.
Это чувство некоторыми открыто признаётся, а другими в частности патриархийным руководством за милыми улыбками, молча демонстрируется тем пренебрежением, с которым относятся к своей добыче.
К первой категории можно отнести признание отца Георгия Митрофанова, человека известного тем, что за словом в карман не лезет и безбоязненно пишет и говорит всё то неполиткоректное, что принято скрывать, покрывая дубовым языком. Помним, как он, один из учёных клириков МП, не побоялся выпустить нашумевшую книгу «Трагедия России Запретные темы истории ХХ века в церковной проповеди и публицистике», где в частности пишет о генерале Власове совсем не в духе патриархийной и государственной пост-советской линии. Так что же говорит отец Георгий ? «Мы же объединились с РПЦЗ, уже сильно разбавленной советскими и постсоветскими иммигрантами». Разъясним трезвые слова отца Георгия : советские и постсоветские иммигранты есть большая разница с русскими эмигрантами, создавшими эту цитадель, каковой была Зарубежная Церковь. Очень тонко замечено. Люди, родившиеся в Советском Союзе вполне могли и могут вливаться в Зарубежную Церковь, не разбавляя её и не превращая её в пост-советскую жижу, но для этого должны воспринимать её дух, её принципы, её идеологию, что столь удачно некоторым удаётся, но большею частью мы видели, увы, обратное и в конце концов зарубежные принципы растворились в сергианское месиво, что неизбежно и привело к капитуляции, подписанной Вл. Лавром и прочими архиереями.
Вот почему не сбылась горделивая мечта Вл. Марка быть теми дрожжами, благодаря которым поднимется всё тесто Русской Церкви
О каких дрожжах говорить, когда день за днём наблюдаешь за действиями и читаешь высказывания этих бывших зарубежных архиереев и священнослужителей. Первая сдача позиций состоялась почти моментально, вернее она даже предшествовала самому подписанию унии, поскольку для патриархийной стороны это было условием sine qua non для объединения. А вопрос этот был далеко не маловажный, десятилетиями считался даже самым крупным и принципиальным вопросом разделяющим наши Церкви : сергианство. Тему о сергианстве смазали очень ловко, заявив, что безцветная, скопированная с католиков "социальная концепция" каким-то чудодейственным образом будто способна на веки вечные предохранять МП от нового подчинения безбожной власти и собою окончательно стирает все прежние беззакония, и до последнего следа стирает "первородный грех" советской Церкви. Митр. Сергий своей политикой спас Церковь эта аксиома всеми должна безоговорочно быть принятой и оспариванию не подлежит.
И добровольные зарубежные заложники сделали вид, что этому поверили и о сергианстве больше ни слова, зато громко заявляли, что будут непоколебимы в своём неприятии другого принципиального вопроса экуменизма и будут требовать выхода МП из Мірового Совета Церквей и отказа от экуменических заигрываний. Цель казалась даже легко достижимой, поскольку руководство МП давало знаки, открывающие надежды на скорый разрыв с экуменической деятельностью. Но то было время, когда МП считала нужным "покрасоваться" своим православием перед Зарубежниками, видя в этом эффективный способ для заманивания их в свои сети. С тех пор время прошло, уния состоялась и, в добавок, во главу МП стала знаменитая двоица "Кирилл Гундяев / Иларион Алфеев", что окончательно похоронило всякие надежды оздоровления Патриархии. Но и с этим, как и со сергианством, свыклись. Говорить сегодня о том, что, несмотря на порою открытое несогласие низшего духовенства и народа, в МП экуменизм развивается церковным руководством на полном ходу избитая истина, против которой несчастные зарубежные заложники ни словом не протестуют.
Но как тут не подчеркнуть, что не только МП, игнорируя их легитимные требования, "плюёт в душу" своих новых союзников, но и сами их "архиереи" если таковым можно считать трижды анафематствованного Михаила Донского весёлыми ногами шагают по экуменическим тропам. Объединившись с МП, бывшие Зарубежники полностью влились в дружное семейство либерального "официального Православия", в среде которого ныне живут вполне естественно. Встречи, сослужения с новостильниками практикуются без малейшего зазора даже теми, кто вчера слыли ярыми антиэкуменистами. Был ли таковым Донсков ? Трудно сказать, так как всё больше становится ясным, что не имел вообще никаких прочных убеждений, но во всяком случае выдавал себя за антиэкумениста. Не будем говорить о его постоянных служениях с либеральными православными, но напомним о его участии в первой совместной встрече между Конференцией католических епископов Швейцарии и Ассамблеей православных епископов той же страны, в итоге которой было подписано совместное коммюнике, утверждающее, что «Католическая и Православная Церкви признают друг друга Церквами-сестрами». Здорово, не правда ли, для "зарубежного архиерея" ! И тут пойманный Донсков стал с особой яростью распространяться в интервью о том, что «это не означает, что мы восстановили евхаристическое общение с католиками» ! А разве кто-нибудь это утверждает ?! До такой глупости никто из здравомыслящих людей не доходит. Просто скорбно видеть, что его участие в этой сомнительной встрече не было осуждено вышестоящей властью (об осуждении, естественно, и речи быть не может в той ситуации, в которую они добровольно вошли) и что вчера ещё Зарубежные архиереи повторяют теперь слово в слово знаменитое еретическое утверждение, введённое в употребление покойными константинопольским патриархом Афинагором и римским папой Павлом VI, и значит признают, вытекающее из этого снятие анафем торжественно провозглашённое 7 декабря 1965 года !
Вспомним тут замечательные «Скорбные Послания» нашего святого Митрополита Филарета, чтобы понять какой ров отделяет теперь этих людей от нашей Зарубежной Церкви.
Принципиальность, идейность, то-есть всё то, что характеризовало всегда Зарубежную Церковь и выделяло её из общей массы православных Церквей совершенно испарилось из жизни и поведения РПЦЗ МП, которая своим вхождением в широкое семейство розового христианства, полностью освоила мещанские принципы міра сего, во зле лежащего. Вспомним как, отправившись в Южную Америку, "митр." Иларион счёл возможным, а может быть и естественным, сниматься рядом с главным магистром масонской ложи ! И такого человека считать первоиерархом или просто продолжателем той самой Церкви, которая Окружным Посланием Собора Архиереев РПЦЗ от 15/28 августа 1932 г. под председательством Митрополита Антония, осудила масонство вплоть до отлучения от причастия прикасающихся к этому духовному яду ! ...
Другой пример. Недавно были президентские выборы во Франции и, "чтобы быть, как все", Ассамблея Православных Епископов Франции обнародовала Обращение к пастве, напоминающее "республиканские ценности", будто скрепляющий французский народ "республиканский пакт", призывающее православных голосованием совершить свой "гражданский долг", восхваляющее французский лаицизм, чья цель, как известно, освобождение общества от религии, в частности от христианских учения и ценностей, что широко открыло путь закону об аборте и в скором будущем узаконит гомосексуальные браки. Так и тут, естественно, наш герой Михаил Донсков расписался под этим более, чем необыкновенным для зарубежного уха призывом. С одной стороны бегает с лозунгами «За Русь, за Веру», выдаёт себя за потомка Галлиполийцев, а с другой подписывает коммюнике о лаицизме и о том, что православная и католическая Церкви Церкви сёстры Не лучшая ли это иллюстрация тому, что сказал отец Георгий Митрофанов, что объединились-то они с Церковью сильно разбавленной советским и пост-советскими иммигрантами.
Как не горько говорить, думая о всех тех невинных там находящихся, РПЦЗ МП, или правильнее было бы её называть "Заграничная МП", за эти пять лет, а то и меньше, полностью растворилась в т.н. "официальном православии", утеряла всю свою соль, что неминуемо наводит мысль на грозную притчу Христову : «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» /Мф V, 13/.
Ещё в 2009 году, Кирилл Гундяев говорил и не был опровержен : «Уже сейчас мы не чувствуем никаких разделений с РПЦЗ» и с самого начала своего патриаршества последовательно проводит он линию подведения всех под одну гребёнку. В МП ведь, как и в РФ соблюдается жёсткая вертикаль власти : есть один главнокомандующий и одна генеральная линия. Никаким тут "марковским дрожжам" нет места, ни каких разговоров об осуждении сергианства или отказа от экуменизма не должно быть речи. Каждый должен знать своё место. Место Илариона Капрала, где-то около двадцатого в длинном списке патриархийных митрополитов. А Вл. Марк продолжает находиться в антиканоническом положении, разделяя одну и ту же Германскую епархию и Берлинскую кафедру с другим патриархийным архиереем. Но это ему не мешает с умилённой улыбкой вспоминать проделанный путь к унии : «Был вопрос самый трудный, хотя кажется теперь немножко смешным это был вопрос поминовения Патриарха». Ничего не скажешь, вопрос смешной. Так во всяком случае его определяет тайный архитектор предательства РПЦЗ. Со своей стороны, кардинал Каспер, вспоминая падение берлинской стены в 1989 г., однажды по другому поводу сказал нечто подобное : «Стены между Церквами рухнут, и мы протрем глаза». Интересно было бы знать мнение всех бывших Зарубежников на самом деле вы протёрли глаза и стало вам смешно вспоминать о том, что казалось вам выше сил : поминать патриарха ?
Да, в жёсткую рукавицу попались наши недальновидные "современные ученики чародея" ... Кирилл Гундяев с самого начала точно расставил все точки над i : «Поддерживая существующую автономию, с обеих сторон мы будем делать все, чтобы наше единство углублялось и чтобы даже проницательным корреспондентам не пришло в голову задавать вопросы о некоей специфической роли Зарубежной церкви, тем самым дистанцируя эту часть от единой Русской православной церкви». Любая специфическая роль бывших Зарубежников полностью отметается и вот какая миссия им отводится самим патриархом : «Окормление православных русскоязычных людей, оказавшихся в дальнем зарубежье». Итак, главное задание "Заграничной МП" служить молебны и панихиды для русскоязычной публики, число которой постоянно растёт за границей, но ни в какую церковную великую политику не лезть.
Нельзя обойти молчанием дотоле у нас неведомый обычай обмениваться перед камерой подарками для придания торжественности заканчивающейся встрече. Тут эта сцена превысила все границы т.н. kitch'a ... Патриарх передал огромную двухметровую икону сталинской любимой святой Матроны (даже не понятно куда такую громаду смогут поместить в наши, как правило, скромные по размерам храмы), а Вл. Иларион преподнёс такого же размера портрет самого Кирилла Гундяева (!) на фоне Святой Троицы ... Вот уж где Вл. Марк мог бы усмехнуться, а все Зарубежники вместе с ним сгореть со стыда ... И тут тоже не трудно найти символический смысл таких подарков, немало говорящих о духовном падении РПЦЗ МП.
Итак, попытаемся ответить на заданный в заглавии вопрос «Ну, а теперь что ?». По видимому всё. Крышка. Известно только что при закрытых дверях состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы дальнейшей консолидации русского православного рассеяния. Какую именно консолидацию придумали неизвестно, такие вещи широко не разглаголиваются, они держаться в тайне. Но не запрещено каждому иметь маленькую идею на этот счёт. Одно только несомненно : консолидация будет.
Я ВЕРЮ - РОССИЯ ВЕРНЁТ СЕБЕ СВОБОДУ
Дмитрий Барма
По-военному быстро подкатились к нам две колонны автозаков и грузовиков с Отрядами Милиции Особого Назначения. Ровные ряды ОМОН-овцев с нескольких сторон врываются на Кудринскую площадь. Вот уже и усиленный мегафоном крик «Вы все арестованы!» разрывает ночную тишину, вот уже идёт погрузка в воронки-автозаки. Большая часть схваченных это простые русские люди. Те, кто понял что чекисты губят Россию.
А как же права? А как же законы? А никак. Это при Государе-Императоре их соблюдали даже по отношению к государственным преступникам, а потом наступили времена формально узаконенного беззакония, когда даже и человеческая жизнь ничего не стоит. «Всеспасительная» Конституция? Так убедитесь же самым наглядным образом что это - никакой роли не играющая бумажка под колесами ОМОН-овского грузовика. И не более того.
Добро пожаловать в новую Эрэфию, господа. Добро пожаловать в страну, бесспорно гарантирующую каждому её гражданину право на гонения только за то что он русский и православный, на нищету, на аресты и насилие, на судебный произвол и беззаконие басманного «правосудия» - точной копии советского. В обмен на это русским людям даются «почетный» долг и «священная обязанность» быть верными антинациональному государству (что уже само по себе абсурдно).
Вот так, совершенно закономерно, завершился путинский курс «на постепенное построение демократии», браво строившейся под звуки советского гимна, под «святейшее» пение лже-патриарха и под кощунственные «богослужения» под красными знаменами на торжественных перезахоронениях красноармейцев. Вот куда чекисты привели страну через карательную 282-ю статью, через скандальные захваты храмов и святынь, через убийства и взрывы, через ложь и бессовестность.
Вместо «светлого» ново-советского будущего, на которое так надеялись до сих пор не запрещённые последыши тоталитарной КПСС и прочие левые силы, вызрела очередная, по-прежнему антинациональная диктатура. «Светлое будущее» оказалось рекламным мифом для наивных идеалистов.
В этом крахе иллюзий, довольно болезненно переживаемом левыми, нет ничего удивительного. Там, где пропагандируются советские мифы и шаг за шагом идёт реставрация советского общества, ab ovo основанного на диктатуре - там и не могло возникнуть ничто иное.
Да, именно так. Как бы больно не было осознавать это сторонникам диктатуры «пролетариата», но ностальгия по советскому тоталитаризму взрастила на его руинах новый тоталитаризм. Однако проблема возникла не только из раздувавшегося в обществе ностальгирования по СССР, но и в сохранении ЧеКи (вот кто раздувал-то, вот кто стал править страной и грабить её!). КГБ многократно переименовывали, да, но от того ни сущность, ни методы антинациональной тайной государственной полиции режима никак не изменились. Стали тоньше и подколоднее, да, но не более того.
Вообще все советские переименования всегда делались лишь чтобы маскировать ими дискредитированные, но не меняющиеся государственные механизмы. Точно также и другое дитя НКВД, милиция, не так давно была переименована в «полицию». Но суть-то от того никак и ни в чем не изменилась. Дошло до комичного: ОМОН-то так и не был переименован в Отряды Полиции Особого Назначения. Кстати, это ведь не отряды, а части, подобные прежним ЧОН. «ЧМОН» части милиции особого назначения вот так вернее было бы.
Что мы видим сегодня? То, что режим во всём подобен прежнему, советскому, и точно также держится на чекистско-партийной диктатуре. Держится не законами, а указами, распоряжениями и инструкциями. Также нагло ворует и также бесстыдно паразитирует на теле России, непрерывно плодя всё новые «кормушки» в и без того непомерно раздутом бюрократическом аппарате. И собственно русских людей в этом аппарате днем с огнем не сыщешь.
Режим, подобно советскому, нагло торгует русскими национальными интересами и также, сознательно, паразитирует на им же самим искусно раздуваемых болезнях русского национализма. Да, есть различия в экономической системе. Нынешняя ближе к экономической системе Муссолини. Однако при этом имеет одно, но коренное отличие: в основе нынешней «российской» экономики всё то же рабство, всё та же дискриминация всего русского народа, что была и при СССР, коему РФ прямо правопреемственна.
Эти особенности пост-советского режима вызывают совершенно закономерное недовольство народа. Произвол и репрессии пока ещё смогут загонять эти настроения «внутрь», но не навсегда. Иные темные личности, пытаясь перевести народное недовольство в новый виток смуты, даже готовы разыграть ради того сценарий очередной «перекраски» - при котором этот диктатор и будет устранён, но самый механизм подавления и угнетения русского народа сохранится. Но от русского народа они далеки, чужды ему - и уже потому обречены на неизбежную неудачу.
Всё идёт так, как и должно было идти. И придёт тот час, когда русский народ вернёт себе свою, Национальную Россию. А пока он будет проходить очень жестокую школу жизни. Школу, которая, прежде всего, отучит его от лживого и трусливого рабства. И если мы сами этому поможем, то в итоге произойдёт предвиденное Иваном Александровичем Ильиным: «Россия вернёт себе свободу, укрепит её и приучит свой народ к свободной лояльности. Но в дьявольской школе тоталитарного коммунизма она научится ценить свободу, не злоупотреблять ею, не торговать ею и стойко блюсти её законные пределы».
Подмосковье
Н. В. ГОГОЛЬ. ТРУДНОЕ ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ.
Шуплецова К.
«Россия-одна могила, Россия под глыбою тьмы.
Но все же она не погибла, пока еще живы мы.
Держитесь, копите силы, нам уходить нельзя
Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья.»
В. Солоухин (+1997)
К. Аксаков осенью 1851 г. пишет такое письмо известному историческому романисту прошлого Г. П. Данилевскому[1] «Ваше письмо, Григорий Петрович, было получено мною 21 февраля в самый день смерти Н. В. Гоголя. И так странно мне было читать это письмо, в котором Вы беспрестанно о нем говорите (как о живом К. Ш.), в котором Вы просите маменьку помолиться за Гоголя и за «Мертвые души». Ни того, ни другого больше не существует, «Мертвые души» сожжены, а жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от беспрерывных подвигов, от тщетных усилий отыскать обещанную им светлую строну жизни от необъятной творческой деятельности Разыгралась страшная драма, свершилось огромное историческое событие, полное необъятно-строгого смысла: Гоголь умер, и теперь нам надо начать новый строй жизни без Гоголя».
В детстве автор статьи открыл томик Н. В. Гоголя (изящное собрание сочинений в 4-х томах) и прочел, не отрываясь, целиком рассказ «Страшная месть».
Много раз позднее мне нравилось перечитывать эту повесть и другие повести из «Сорочинской ярмарки». Сладко и жутко замирало мое сердце над «Пропавшей грамотой», «Майской ночью ли утопленницей»: жаль мне было несчастной сироты утопленницы Панночки!
И глубоко в сердце оставили след слова старого Тараса Бульбы о товариществе, о том, что «нет таких мук на земле » и о том как умеет любить друга-воина и Отчизну православный Русский человек. И хочется вместе с Н. В. Гоголем произнести: «Нет таких мук на земле, которые могли бы нас напугать и уничтожить нашу святую дружбу и товарищество!»
Перечитываю «Тараса Бульбу», и вновь берут за душу слова, с которыми умирали в битве казаки: «Не жаль расставаться со светом. Дай Бог всякому такой кончины. Пусть же славится до конца века Русская земля!»
Н. В. Гоголь загадочен, о чем говорит загадочная фигура настоящего ревизора, прибывшего в конце действия в трагикомедии «Ревизор». При его появлении действие почти переходит в трагедию, а городничий пророчески изрекает: «Горе нашему Отечеству, горе всему христианству!»
После поездки в Оптину пустынь, Н. В. Гоголь осознал суть христианской жизни, воцерковился, став верным сыном Православной Церкви и духовным сыном великого Оптинского старца Макария. О Гоголе старец Макарий сказал, что он кающийся. За послушание духовному отцу Оптинскому старцу, Н. В. Гоголь сжег 2 том «Мертвых душ» и жалел, что и 1 том вышел. В последние месяцы своей жизни регулярно посещал все службы приходского Московского храма, истово говел, исповедывался, вел духовную жизнь Православного Христианина. На своем опыте познал трудность духовной брани.
О искреннем желании писателя покаяться, ревности к Богу, свидетельствует священник о. Матфей Константиновский.
Писатель И. Л. Щеглов-Леонтьев (1855-1911) в своем прекрасном автобиографическом рассказе «Полуночный Ревизор» (Единственный читатель) устами гробного монаха у мощей преподобного наставляет актера императорских театров, отслужившего по обету молебен у раки святителя (в рассказе точно не указано имя святителя, но возможно, это была рака с мощами свяителя Митрофания Воронежского или святителя Тихона Задонского).
Привожу знаменитое и столь важное мнение простого монаха о фигуре ревизора в творчестве Н. В. Гоголя: «Старец троекратно благословил Блажевича и, проникновенно воззрившись на него, изрек многозначительно: «Памятуй сын мой в сердце своем Полуночного Ревизора и благоустрояй душевный град свой, ибо никто не ведает ни дня, ни часа, егда Он возгрядет взыскать содеянное! Все мы смиренные рабы Его и работнички на ниве Божией, и на разных путях земных служим единой славе Творца Нашего Небесного».
Оказывается, «душевный град» имел в виду Н. В. Гоголь в «Ревизоре». Простой монах так тонко понял замысел писателя. Но сегодня все сильнее слышатся те самые горькие пророческие нотки в творчестве великого Русского писателя Н. В. Гоголя, духовного сына Оптинского старца Макария.
[1] Исторический романист Григорий Петрович Данилевский очень хотел встретиться с Н. В. Гоголем, с которым познакомился в доме у Аксаковых в Москве. Н. В. Гоголь пожелал встретиться со своим земляком Г. П. Данилевским и пригласил его на встречу, но смерть Гоголя не дала этому свиданию состояться. К. Ш.
Н.В. ГОГОЛЬ: НА СТУПЕНЯХ К СЕДЬМОМУ НЕБУ
Сеющий в плоть пожнёт тление, а сеющий в дух жизнь вечную.
Евангелие
Глава 1.
-
От земли к самому синему небу протянута лестница, опущенная ангелами с горней
высоты, и всякий человек на протяжении жизни поднимается по ней всё выше и выше.
Иной вначале остановится, иной на середине пути и беда тому, потому что
лестница та прямо к Богу ведёт. И, кто одолеет её, кто до самой последней,
седьмой ступеньки дойдёт, тот на седьмом небе окажется и Бога узрит, и в чертог
Господень впущен будет, как желанный гость
Негромко и устало звучал бабушкин голос, в который раз повторяющий притчу о
чудной лестнице, образ которой поразил однажды впечатлительного мальчика и
навсегда запал в душу. Вот, она, лестница эта, как наяву: белая, сияющая,
устремлённая ввысь толпятся тёмные люди у подножия её, а другие взбираются
вверх, светлее ликами с каждым шагом, а кто-то срывается вниз, а кто-то уже
почти достиг высшей точки, той самой, где ждёт верных своих сыновей Господь,
ангелы и святые в сияющих ризах
Никоша сидел рядом с бабушкой, прижавшись к ней
и широко раскрыв глаза. Татьяна Семёновна умолкла, задумалась о чём-то. Никоша
тронул её за рукав. Бабушка ласково улыбнулась и погладила его по рыжеватой
голове. Он попросил её рассказать про деда. Татьяна Семёновна вздохнула и
принялась сказывать своим вкрадчивым голосом, нараспев, словно былину, историю,
которую Никоша слышал не раз, но готов был слушать вновь и вновь, потому что не
было радости большей, чем сидеть в этом небольшом тёплом домике в стороне от
господского дома, вдыхать неповторимый запах, царящий здесь, чувствовать
прикосновение ласковых бабушкиных рук, взгляд её мягких, лучистых глаз и слушать
её мелодичный, напевный голос. Иногда, слушая очередную песню или рассказ,
Никоша засыпал, и ему снились бескрайние просторы, разудалая жизнь казачьей
вольницы, которой вовсе не чужды были его недалёкие предки. Среди них были и
Яков Лизогуб, соперник Мазепы, некогда бравший Азов и брошенный по доносу в
Петропавловскую крепость, и Павел Полуботок, дерзко споривший с Императором
Петром, и полковник Танский, сосланный Анной Иоанновной в Сибирь, и полковник
подольский и могилёвский Евставий (по другим сведениям Андрей) Гоголь-Яновский,
получивший за ратные заслуги имение Ольховец от польского короля Яна-Казимира
Все эти далёкие и не очень предки живо воскресали в богатом воображении
мальчика, становясь для него почти осязаемыми, словно бы сам видел он их.
- Отец мой, Лизогуб, нанял для меня доброго учителя, знавшего грамоте и пяти
языкам
- рассказывала Татьяна Семёновна, и лицо её озарялось светом счастливых
воспоминаний. - Уж как он был внимателен и расторопен, мой Афанасий Демьянович!
Одна беда чином только лишь полковой писарь. Родители мои были люди нрава
сурового и не благословили бы нас, а мы уж друг без друга не могли. Записки друг
другу писали, прятали в скорлупу грецкого ореха и оставляли в дупле дуба
А
потом решили обвенчаться. Тайно. Я собрала все свои драгоценности, и ночью мы
бежали из дому. Темно, страшно, кругом лес густой
И вдруг лихие люди на пути
встали. Отняли у нас всё, что было. С чем дальше идти? Куда? Возвратились мы под
родительский кров, упали в ноги, испросили прощения. Тут уж и простили нас отец
с матерью, и благословение даровали
Ах, какой он был весёлый, мой Афанасий
Демьянович! Какие чудные истории рассказывал заслушаться можно было
Только уж
и не припомню теперь
А хозяин какой
- бабушка вздохнула и задумалась вновь,
вспоминая своего покойного мужа.
Молчал и Никоша. Он думал уже о своих родителях, история любви которых также
была удивительна. Свою будущую жену, сын Афанасия Демьяновича увидел во сне,
увиденном во время поездки на богомолье. Божия Матерь подвела его к завёрнутому
в белые одежды младенцу и, указав на него, произнесла:
- Вот, твоя суженая.
После богомолья Гоголи-Яновские заехали навестить своих соседей Косяровских.
Едва взглянув на их годовалую дочку Машу четырнадцатилетний Васюта воскликнул:
- Это она!
Двенадцать лет Василий Афанасьевич ездил к Косяровским, возился с их дочерью и
терпеливо ждал, когда та подрастёт. Когда Маше исполнилось тринадцать, он
признался ей в своих чувствах, а спустя год они были помолвлены. Свадьбу решено
было отложить на год, но жених выдержал лишь месяц. Ему вновь привиделся сон,
похожий на первый, но уже со взрослой Машей, стоящей у алтаря. Верхом,
обрызганный грязью, он примчался весенним днём в имение Косяровских.
- Это указание свыше! Того хочет Бог! говорил он, сверкая глазами, бледный и
возбуждённый.
Свадьба состоялась, и, не дожидаясь окончания скромного застолья, Василий
Афанасьевич увёз молодую жену
- Над явором ворон кряче,
Над козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твiй сын оженився,
Та взяв жiнку паняночку,
В чистом полi земляночку,
I без дверец, без оконець.
Та вже пiснi вишов конець.
Лилась и лилась протяжная, щемящая душу песня, унося каждого внимающего ей в
иные края и времена, и перед взором Никоши так и вставали, оживая, сцены,
проносились в воображении, и слёзы катились по щекам от жалости к героям этих
песенных повествований. Долгая песня навивала сон. Уже вечерело, и пора было
возвращаться домой, а так не хотелось. Вот бы вечно сидеть так, обратившись в
слух, в мечту
Ах, какие чудные времена и люди были когда-то, какие необъятные
просторы лежат где-то! Вот бы пуститься по ним однажды и объездить всю-всю
землю, в каждый уголок заглянуть, всё увидеть и узнать самому
Вечерняя прохлада уже пробралась в сад, и Никоша зябко поёжился, но всё-таки
остановился и, замерев, стал вслушиваться в тишину, нарушаемую шелестом
распускающейся листвы, издающей кружащий голову аромат. Весна! Вот, она,
любимая, пришла, наконец, после долгих морозов, внося свежесть во всё: в природу
и в душу! Каждый звук теперь иной, каждая пташка по-другому поёт, и всё звенит
причудливо и маняще. Весна, что за восхитительное время! Весной оживает всё,
весной Христос воскрес, весной родился он сам
Был только март-месяц. Ещё зима стойко обороняла свои рубежи, но то там, то
здесь легкокрылая весна пробивала звонкой капелью бреши в этой обороне и теснила
холода, возвещая голосами первых птиц, что пришло её царствование, что настало
время пробудиться всем и воскреснуть ото сна к новой светлой жизни.
На крутом берегу реки Псел, в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда
Полтавской губернии, в белостенной хате доктора Трохимовского Никоша появился на
свет. Он родился болезненным, и родители боялись за него, потеряв во
младенчестве уже двоих сыновей. Матушка, Мария Ивановна, долго молилась пред
иконой Святого Николая-Чудотворца в храме соседней Диканьки, дав обет наречь
новорожденного Николаем, если только Бог сохранит ему жизнь
Никоша задумчиво брёл по аллеям, разбитым отцом в парке, которому он старался
придать более или менее культурный вид. Далеко витали мысли впечатлительного
мальчика. Всё в жизни имеет две стороны, и его недюжинное воображение, рождавшее
перед глазами чудные картины прошлого, сказывалось ещё и болезненной
мнительностью, унаследованной от отца. Некогда Василий Афанасьевич писал своей
невесте: «Я должен прикрывать видом весёлости сильную печаль, происходящую от
страшных воображений
Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и
лютое отчаяние терзает моё сердце
» Эта необъяснимая логически тоска и печаль,
рождённая страшным воображением, являлась в Никоше с самых ранних лет, вдруг
сдавливала сердце, наводила ужас.
Проходя мимо пруда, Никоша с болью вспомнил один из таких приступов. Однажды
родители уехали, а все домашние разошлись по своим комнатам. Была ночь, и
мёртвая тишина царила вокруг. Никоша сидел один в гостиной, и вдруг душу его
переполнил необъяснимый страх. Заскрежетали, а затем громко забили старинные
часы, разрывая тишину. Какое-то паническое чувство овладело мальчиком. В этот
момент из темноты блеснули недобрые зелёные глаза, раздалось негромкое мяуканье
Кошка приближалась, стуча коготками о половицы
Этого перепуганный Никоша
выдержать уже не мог. Он схватил кошку и выбежал в сад. Луна вышла из-за туч,
когда запыхавшийся мальчик оказался возле пруда. Бледное пятно глядело из тёмных
глубин воды, и в него-то и швырнул Никоша кошку. Когда мяуканье затихло, и вода
сомкнулась над утопленным животным, сделалось ещё страшнее. Никоше показалось,
будто бы он только что убил человека. Мгновенно вспомнилась сцена Страшного
Суда, не раз виденная в местной церкви, в которую родители регулярно водили
сына. Сами службы не оставляли заметного следа в его душе. Бесстрастными глазами
взирал он на всё, ничего не замечая, отбывая повинность по воле родителей,
крестясь потому, что крестились все
Но сознание того, что есть Высший Суд,
Судия, всё видящий и знающий, неотвратимый, глубоко проникло в сознание его. И
теперь этот Судия знает о свершённом злодеянии, знает и неизбежно накажет.
Никоша вдруг явственно ощутил, что преступил, что совершил преступление, не
имеющее оправдание, и от этого ему сделалось жутко и горько. Отчаяние овладело
мальчиком, он стал рыдать, и вернувшиеся родители нашли его совершенно
истерзанным. Отец больно выпорол его, но это оказалось благом: боль физическая
пригасила боль душевную, самую нестерпимую и неизбывную, дав ощущение
искупления
С той поры Никоша понял, что нет чувства тяжелее, чем сознание своей
вины, своего греха, нет муки большей, чем мука совести
Никакая физическая боль
не сравнится со страданием души.
Подойдя к дому, Никоша услышал голоса и догадался, что в гости к отцу пожаловал
родственник и благодетель Дмитрий Прокофьевич Трощинский, экс-министр и член
Государственного совета, екатерининский вельможа, перед которым вытягивалась вся
губерния. Никоша с родителями нередко бывал в богатом имении Трощинского. Там
был устроен театр, где ставились самые известные пьесы того времени: «Подщипа»
Крылова, «Недоросль» Фонвизина, «Ябеда» Капниста, также соседа Гоголей. Василий
Васильевич Капнист был дружен с Державиным. Знаменитый поэт однажды приезжал к
нему, и тогда единственный раз в жизни его видел маленький Никоша, гостивший с
родителями у Капниста. В имении Трощинского царила атмосфера 18-го века с балами
и маскарадами. Никоша не любил этой пышности и, в особенности, угодничества, с
которым все гости заискивали перед хозяином, он часто скрывался в огромной
библиотеке Дмитрия Прокофьевича, читал его книги, так как в доме самих Гоголей
была единственная книга роман Хераскова, некогда подаренный Василием
Афанасьевичем своей невесте.
Тем не менее Трощинского Никоша не любил. Не любил за высокомерие и за то, что
его отец был должен ему и потому, как и другие, заискивал перед благодетелем.
Это казалось стыдным, унизительным. В счёт долга Василий Афанасьевич был
почётным приказчиком Трощинского, фактически служил ему. Услуги, оказываемые
добрым благодетелем, часто оказываются удавкой, стягивающейся на шее того, кому
они оказываются. Удавку эту очень хорошо ощущал Василий Афанасьевич, стыдившийся
своего положения должника, страдающий от него, но не имеющий возможности
изменить его, так как дела в имении шли неважно: продуктов было довольно, но
денег не хватало всегда, приходилось экономить на самом необходимом. «Чего бы,
казалось, недоставало этому краю! Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего
растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. (
)
Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно
возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и
фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, и они
рыскают с горя за зайцами. (
) Деньги здесь совершенная редкость
» Незавидное
положение отца видел Никоша, и сердце его было уязвлено обидой за него.
Мать, молодая, красивая женщина, хлопотала по хозяйству. Дмитрий Прокофьевич
жаловал её, поскольку Мария Ивановна, помимо того, что была редкой красавицей,
ещё являлась искусной плясуньей и ещё в детстве лихо отплясывала «козачка» в
присутствии гостей, и сам благодетель приезжал полюбоваться на неё. Отец вместе
с важным гостем сидели за столом и играли в шахматы. Старик Трощинский, по
обыкновению, поглядывал свысока, улыбался милостиво, иногда что-то говорил, а
Василий Афанасьевич всячески изображал весёлость, шутил, стараясь быть приятным
гостю. Никоша подошёл к отцу и, посмотрев на него ясными глазами, сказал:
- Папа, не играйте с ним. Пусть идёт.
Василий Афанасьевич побледнел и не сразу нашёлся, что сказать. Трощинский с
любопытством посмотрел на мальчика:
- Экий ты не по годам острый! Уже в отцовском доме хозяйствуешь? А ну как я тебя
розгой поучу?
- Плевать на вас и на вашу розгу! ответил Никоша.
Отец сплеснул руками, схватил сына за плечо:
- Ах, ты шкодник! Извинись немедля! Вот, я тебя сейчас проучу!
Василий Афанасьевич был настроен решительно, и Никоша уже приготовился к порке,
когда вдруг Трощинский остановил своего приказчика-родственника:
- Полно вам, Василий Афанасьевич! Оставьте его, оставьте.
- Но Дмитрий Прокофьевич
- Я не желаю, чтобы вы наказывали вашего сына.
Василий Афанасьевич помялся и выпустили Никошу:
- Ступай в свою комнату и не вздумай выходить, покуда не позволю. И скажи
спасибо доброте Дмитрия Прокофьевича, а то бы ты у меня никак не избежал
наказания!
Благодарить благодетеля Никоша не стал, гордо повернулся и ушёл к себе.
- Он будет характерен, - заметил старик, глядя ему вслед.
- Прошу вас простить моего сорванца
- начал было Василий Афанасьевич, но
Трощинский прервал его, милостиво махнув рукой:
- Садитесь, продолжим партию. Кажется, ход ваш. Играйте!
Василий Афанасьевич послушно сел и, недолго думая, выдвинул первую попавшуюся
фигуру одну из пешек. Оная тотчас была сражена ладьёй Трощинского, знавшего
толк в этой игре и не позволявшего эмоциям ослабить своё внимание к ней.
- Вам шах, - довольно улыбнулся благодетель, и Василий Афанасьевич услужливо
изобразил бледное подобие улыбки в ответ.
Оставшись один у себя в комнате, Никоша достал перо и бумагу и начал писать.
Бумаге он мог доверить чувства, которые не доверил бы ни одному живому человеку.
Но даже бумаге поверялись они в зашифрованном виде в стихах. Никоша писал их,
подражая тем, что слышал и читал. Подражал в том числе и собственному отцу,
который также не чужд был поэзии и даже написал несколько пьес. Подражать Никоша
умел виртуозно. Он копировал повадки людей, которых видел, и очень похоже
изображал их, копировал манеру письма других авторов в своих виршах, копировал
окружающий мир в рисунках. Стихи его мать называла каракулями, но втайне
гордилась способностями сына и даже показала «каракули» старому поэту Капнисту.
Василий Васильевич, разумеется, не мог оценить этих детских проб пера, но зато
заметил и оценил другое: наблюдательность мальчика, умение его схватывать
особенности человека. «Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать
человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с
удержанием самого склада и образ его мыслей и речей» . Потрепав Никошу по
голове, Капнист предрёк:
- Из него будет толк, ему нужен хороший учитель
Глава 2.
- Дражайшие Папинька и Маминька! О, естлибы вы могли знать, как горько и одиноко
мне здесь без вас
- Это ещё что такое опять? раздался позади суровый голос с сильным акцентом.
Разве так пишут хороший дети благородний родителям, подвергая их печали? Не
вынуждайте меня прибегать к наказание. И не думайте жаловаться, употребляя во
зло родительский любов
Ни один молодой человек не воспитывается без маленькие
благородние наказание. Порвите это и пишите снова.
- А что же писать?
- Я продиктую, - милостиво ответил немец, неспешно расхаживая по комнате.
Г-н Зельднер, за хорошую плату взявшийся быть наставником юного воспитанника
Нежинской гимназии Николая Гоголя, был рассержен. Отец мальчика, встревоженный
первыми отчаянными письмами любимого сына, хотел забрать его домой, но после
передумал, однако послал нарочного с запросом к наставнику. Василий Афанасьевич
даже занемог от беспокойства, чему была причина: совсем недавно он потерял
младшего сына, Ивана, не выдержавшего по слабости здоровья обучения в Полтавском
уездном училище, куда был определен вместе с братом.
Жизнь вдали от дома, в разлуке с близкими, жизнь у чужих людей всегда тяжела.
Особенно тяжела она для ранимой детской души. Окончив писать под диктовку,
Никоша затосковал ещё больше, а учитель ушёл, чтобы составить своё письмо с
обычными требованиями сушёных вишен, сала и прочих даров Васильевки. Тоска по
родному дому, по родителям и бабушке камнем лежала на сердце. Вспоминались тихие
вечера в бабушкином доме, наполненные песнями и увлекательными рассказами. Слёзы
струились по щекам, и больше всего хотелось написать папиньке, чтобы он забрал
его отсюда домой. Но Зельднер этого не допустит. И стыдно было бы бросить учёбу,
струсить, сбежать. Жаль огорчать отца с матерью, но жаль и себя
Ведь немногим
сильнее он брата Ивана
Впрочем, Ивану теперь хорошо
Нет, надо стараться, надо
всё это выдержать ради маминьки и папиньки
Жизнь у Зельднера была не первым опытом жизни в людях для Никоши. Прежде Нежина
была Полтава. Училище с немытыми окнами, катехизисом и постоянным страхом
наказания, коим была пропитана вся тамошняя атмосфера. Но рядом был Иван, и
оттого было легче. А после смерти Ивана Никоша жил у некого учителя, обещавшего
подготовить его к поступлению в гимназию, с которым Василий Афанасьевич
расплачивался, в основном, дарами своего имения. Но и это было не так тяжело.
Учитель Сорочинский «не докучал моралью строгой» своему подопечному, не стеснял
его своей жадностью и педантичностью, как Зельднер, да и Полтава была не так
далеко от родной Васильевки. В Полтаве жило много знакомых отца, и сам Василий
Афанасьевич часто приезжал туда. Приезжал и Трощинский, не любимый прежде, но на
чужой стороне ставший едва ли ни родным человеком: не зря говорят, что на чужой
сторонушке рад своей воронушке. Да и, вообще, жизнь в Полтаве, шумной,
контрастной, была куда интереснее нежинской. Казалось, будто бы этот
прославленный знаменитым сражением, воспетый Пушкиным город был собирательным
образом всех российских городов с их путаницей и сплетнями, шумной торговлей и
взяточничеством, пышными балами и убогими задворками, блеском и нищетой, славой
минувших дней и праздностью нынешних. В Полтаве не удавалось соскучится, ибо
всякий день она давала пищу для ума, для зоркого наблюдательного взгляда.
В Нежине всё иначе. Нежин чужой город, и Никоша чужой в нём. Чужой городу,
чужой своему наставнику, чужой одноклассникам. Эта чуждость всему и всем
тяготила, изводила, наводила уныние.
Впервые в гимназию Никоша вошёл в сопровождении дядьки, которого испуганно
хватал за рукав, затравленно озираясь по сторонам. Он был одет во множество
фуфаек и тулуп, голова его была повязана материнским платком. Нелепость этого
одеяния, которое очень долго, словно кокон, разматывал дядька, едва они вошли в
класс, не могла не вызвать смех гимназистов. Послышались шуточки и колкости, и
Никоша изо всех сил старался сдержать наворачивающиеся на глаза слёзы. Он
поглядывал на дядьку, и в душе его была лишь одна мольба: заберите меня отсюда!
Но дядька ушёл, а Никоша остался в гимназии, среди подтрунивающих над ним
одноклассников, многие из которых, в отличие от него, получили хорошее домашнее
образование, а потому учёба давалась им куда легче.
Тяжело быть чужим, тяжело постоянно чувствовать на себе насмешливые взоры,
постоянно ожидать какой-нибудь обиды. «
как много в человеке бесчеловечья, как
много скрыто свирепой грубости в утончённой, образованный светскости, и, боже!
даже в том человеке, которого свет признаёт благородным и честным
» И зачем,
зачем люди бывают так жестоки? Зачем обижают других? За что? Может быть, со
скуки, а, может, чтобы ощутить свою обманчивую силу. Не со зла чинят обиды, а
для развлечения, или потому что прежде кто-то уязвил их. Но разве легче от того
тому, на кого обращены обиды? Смех вызывала внешность Никоши, его неумение
держаться, его необразованность
Среди отметок его мелькали сплошь тройки. Он
делал пропасть грамматических ошибок в сочинениях и не знал иностранных языков,
тогда как многие воспитанники свободно изъяснялись на нескольких. О, какая мука
сознание себя хуже и ниже других, всему и всем чужим и лишним
Что за жестокая
насмешка природы?! А ведь есть такие счастливцы и баловни, как Нестор Кукольник!
Красавец, и как легко ему всё даётся! Как звенят струны гитары в его руках, как
ловко отправляет он в лузу бильярдные шары! А какая бездна знаний! Сами
профессора подчас обращаются к нему за помощью! Ах, если б хоть самую малость
этих талантов! Хоть что-нибудь и тогда бы иначе смотрели на него!
Есть три пути у человека, над которым тешатся, которого для потехи травят.
Отчаяться и тогда вся судьба под откос. Дать отпор но для того нужна большая
сила и умение. Или же просто не обращать внимания. Уйти в себя, во внутреннюю
эмиграцию, делать вид, что обидчиков не существует, не замечать их уколов, и
тогда однажды им самим сделается скучно, и они угомонятся. Никоша ушёл в себя.
Он водил знакомство с крестьянами, населявшими предместье Нежина Магерки,
уходя туда во всякий погожий праздничный день, много рисовал пейзажи, поскольку
люди занимали его в ту пору меньше, чем картины природы, бродил по рынку,
покупая грушевый квас и раздавая медяки нищим, подолгу разговаривал с
гимназическим садовником Ермилом, а главными спутниками и друзьями его сделались
книги, к которым относился он с величайшим трепетом. Из дома по его просьбе
присылали ему литературные журналы и новинки. Он собирал все книги, какие мог
найти, не исключая «Математической энциклопедии», в которой мало, что мог
понять, не любя и не зная математики.
Шло время. Воспитанники Нежинской гимназии взрослели. Вот, уже дамы стали
заглядываться на красавца Кукольника, вот уже первые романы с девицами из
предместий завели многие гимназисты, и тайком в классах юные повесы делились
впечатлениями от любовных утех. Неужели это и есть любовь? Та самая любовь, о
которой сложено столько восхитительных поэм, баллад, песен, стихов? Нет, не
может быть
Любовь нечто совсем иное. Любовь нечто высокое, недосягаемое,
прекрасное. И как, однако странно, что те же самые юноши, что слагаю в
подражание великим поэтам чудные оды и элегии о любви, в то же самое время
могут, заперевшись в классе, рассказывать друзьям скабрезные вещицы, которыми
любовь может быть только поругаема? Что общего у этих откровенностей с поэзией,
навеянной святым и чистым чувством?
Со временем насмешки в адрес Никоши стали тише. Хотя нет-нет, а выкрикивал
кто-нибудь:
- Пигалица! Мёртвая мысль!
Не обращать внимания. Сделать вид, что не расслышал. И всякое браное слово,
всякий укол разобьётся, как о скалу, об этот защитный панцирь, в который
пришлось облачиться. Никто не должен заметить, что новая насмешка достигла цели,
что причинила боль, никто не должен заметить слёз им можно дать волю лишь
наедине
Скучно нападать на того, кто никак не отвечает, а лишь посмотрит только
как-то странно, пристально, неприятно. Скучно метать камни в непробиваемую стену
молчания. Гимназисты оставили своего странного одноклассника в покое и лишь
изредка, завидев его, шептали вслед:
- Таинственный карла!
Что ж, пусть хотя бы так. Таинственность это уже лучше, это уже не так плохо
Однако же, великая сила смех! А ведь можно же обратить её и против самих
насмешников
Звенела, переливалась ручьями новая весна, бурлила Нежинская гимназия. Вот,
поднялся Нестор Кукольник читать свои стихи, уже принял заученную позу, завёл
глаза и приготовился взять драматическую ноту
- Возвышенный опять запел! насмешливый голос из угла.
Так окрестил взрослеющий Гоголь Кукольника, а вскоре и другие одноклассники
получили от него свои прозвища. Что-то вдруг изменилось в отношении
«таинственного карлы». Уже опасались его острого глаза и языка, уже боялись при
нём сказать глупость или взять чрезмерно высокую ноту. А ну как высмеет? А, хуже
того, передразнит и изобразит? Вот, когда пригодился впервые этот дар,
замеченный стариком Капнистом! Теперь уже недавний изгой сделался одной из
ключевых фигур гимназии, его приглашают всюду, он заводила и всегда желанный
гость. От него ждут остроумных шуток и пародий. Этой перемена не принесла Гоголю
близких друзей. Он так ни с кем и не сошёлся на короткой ноге, старательно
оберегая ото всех свой внутренний мир, свою душу. Он завоевал уважение и интерес
к себе, но оставался одинок и скрытен. Надетая однажды маска комика защищала
его, стыдящегося своих чувств, от болезненных уколов, охраняла, он виртуозно
исполнял свою роль, не позволяя никому проникнуть в то, что скрывала эта маска.
Одиночество изгоя сменилось одиночеством любимца публики, которое, впрочем, было
всё-таки лучше и веселее. «Я должен прикрывать видом весёлости сильную печаль
»
- писал когда-то его отец, но, вряд ли он достиг в этом такого мастерства, как
сам Гоголь
Началом же этой существенной перемены в гимназической жизни Гоголя послужил
театр, организованный самими воспитанниками. Тут пригодился и талант
Гоголя-художника, и актёрский талант. Как художник он рисовал все декорации, как
актёр играл наиболее характерные роли, среди которых старики и старухи, Креон
в «Эдипе» и г-жа Простакова в «Недоросле». Последняя считается коронной ролью
юного Гоголя. Зрители покатывались со смеху, а товарищи единодушно признавали
большой талант недавнего изгоя. Театр был большой любовью Гоголя ещё со времён
поездок в имение Трощинского, и теперь он всецело отдавался этому искусству,
искал пьесы, оформлял декорации, играл
Если на сцену он выходил только в образе комика, то в литературе совсем иные
мотивы владели им. Мечталась трагедия, нечто на манер произведений немецких
поэтов, возвышенное, прекрасное, взывающее к лучшему, что есть в человеческой
душе. Именно к высокой литературе стремился Гоголь. «Ни сам я, ни сотоварищи
мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне
придётся быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой
меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже
надоедать другим моими шутками
» Кроме театра, он решился ещё издавать журнал и
этот огромный труд взялся нести в одиночку. Нужно было звучное название,
оригинальная обложка и, главное, материал. Ночи напролёт юный журналист работал
над оформлением обёртки лица журнала, стараясь придать ей вид печатного
издания. Материала не хватало, хотя Гоголь спросил статей у всех своих пишущих
товарищей, а потому пришлось писать самому во все рубрики журнала, чтобы
наполнить его. Всё это делалось украдкой ото всех, и лишь первого числа месяца
товарищи могли увидеть плод работы неутомимого редактора журнал «Звезда».
Иногда Гоголь читал свои и чужие статьи вслух, и все внимали ему
Вскоре Гоголя избрали хранителем книг. На общую складчину он выписывал все
выходившие в свет журналы и книги и выдавал их товарищам для чтения по очереди,
причём каждому читателю оборачивал бумагой большой и указательный палец, и лишь
после этого вверял книгу
Весной 1825-го года Гоголя постигло тяжёлое горе. Скоропостижно скончался отец.
Узнав о страшной утрате, сын написал матери письмо. Он не мог сдержать слёз, и
строки местами расплывались. Такое письмо никак нельзя было посылать и без того
убитой горем Марии Ивановне. Гоголь взял себя в руки и написал матери уже совсем
иное письмо: «Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с
твёрдостью истинного христианина. Правда я сперва был поражён ужасно сим
известием, однако ж не дал никому заметить, что я опечален
» Как часто бывает,
смерть отца приводит к более скорому возмужанию сына. С уходом Василия
Афанасьевича Гоголь формально сделался главой семьи, теперь на нём лежала
ответственность за мать и сестёр. Сознание этого пробудило в Гоголе прежде
дремавшие силы и волю. Он начал думать о будущем, о своей судьбе, пути. Под
влиянием этих мыслей он написал матери такие слова: «
я совершу свой путь в сём
мире и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней мере буду
стараться сколько возможно быть таковым».
Годы обучения подходили к концу. Уже прогремели события на Сенатской площади,
ударившие и по Нежинскому лицею. Обвинения в вольнодумстве падают на некоторых
преподавателей и воспитанников, включая Гоголя. Лицей становился тюрьмой, и его
стены вновь начали давить, а обитатели их раздражать. «Как чувствительно
приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий
год я перенесу это время!.. Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой
неизвестности в безмолвие мёртвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех,
населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия
высокое назначение человека. И между этими существователями я должен
пресмыкаться
Из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между
товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь
в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! Может быть, слеза соучастия, отдавшаяся
на твоих глазах, послышится и мне
»
Пресмыкаться унизительно, мерзко. Но волю праведному гневу никак нельзя давать.
Когда до окончания учёбы остаётся лишь год, нужно, скрепя сердце, терпеть и
молчать, наблюдая творящуюся вокруг подлость, потому что иначе не получить
аттестата, а, значит, дорога в будущее будет закрыта. А ведь сколько добра можно
принести в этом будущем, если положить всю жизнь на творение блага, на служение
Отечеству! Как жутко и невыносимо было бы остаться не у дел, сделаться
существователем, от которого никому нет пользы! Служить вот, удел всякого
честного человека, переполненного желанием добра. И нужно торопиться, пока есть
ещё силы, пока жизнь, не сулящая быть долгой, не прервалась. Нужно успеть! «Ещё
с самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимой
ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя
малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу,
что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое
уныние. Холодный пот проскакивал на лице моём при мысли, что, может быть, мне
доведётся погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом
быть в мире и не означить своего существования это было бы для меня ужасно. Я
перебрал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном
на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я
могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества.
Неправосудие, величайшее на свете несчастье, более всего разрывало мне сердце. Я
поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Два
года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как
основных для всех законов; теперь занимаюсь отечественным. Исполнятся ли высокие
мои начертания? Или неизвестность зароет их в мрачной туче своей? В эти годы эти
долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я
никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, чтобы могло выявить
глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя? Не для того
ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем,
пустым человеком...»
До самого конца обучения Гоголь так и не позволил себе откровенности с кем-либо
из товарищей, оставаясь для них «вещью в себе», чудаком и нераскрытой тайной.
«
Я почитаюсь загадкою для всех
Здесь меня называют смиренником, идеалом
кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом
угрюмый, задумчивый, неотёсанный
Вы меня называете мечтателем, опрометчивым,
как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей,
чтобы быть мечтателем
»
В закрытом от посторонних глаз мире, между тем, кипит вдохновенная работа.
Чувства, скрытые и накопленные, как собранное экономным хозяином богатство,
теперь изливаются на бумагу в виде поэмы, навеянной немецкими классиками «Ганц
Кюхельгартен». Нет чувства более упоительного, чем вдохновенная работа, когда
чувствуешь, что замысел удаётся, а оттого перо легко скользит по бумаге, а душа
наполняется радостью и ликованием. «Сочинений моих вы теперь не узнаете. Новый
переворот настигнул их
»
Эта поэма была ещё одной тайной Гоголя. Покидая по окончании лицея родные пенаты
и отправляясь в Петербург, отжить в котором целый век начертал он себе целью уже
издавна, он грезил не только о службе на поприще юстиции, но уже о поприще
литературном. Имена Пушкина, Жуковского и других влекли его. Вот, подлинные
гении! Титаны! Если бы только хоть немного приблизиться к ним, хоть у подножия
их пьедестала занять скромное место, а, может быть, и достичь чего-то большего,
сказать своё слово, новое слово в русской литературе! Вот, когда подлинно узнают
его, заговорят о нём. И родные края будут гордиться им, и матушка будет
счастлива успеху своего сына. Ей он пообещал, покидая Васильевку, что она
непременно услышит о нём нечто очень хорошее. И не с юстицией связана была эта
надежда, а с поэмой, заботливо уложенной на дно чемодана вместе с толстой
тетрадью «Книгой всякой всячины, или Подручной энциклопедии, составленной
Н.Г.», в которой были собраны сведения о самых разнообразных предметах,
расположенных в алфавитном порядке.
Но об этом молчание. Пускай покуда все думают, будто в столицу он едет для
службы государственной. Иначе ведь рассмеются в лицо: «Охота вам писать стихи!
Что вы, хотите тягаться с Пушкиным?..» Нет, кто неуклонно идёт к своей цели, то
однажды добьётся её. Итак, в Петербург! «
Я не знаю, почему я проговорился
теперь перед вами, оттого ли, что вы, может быть, принимали во мне более других
участия или по связи близкого родства, этого не скажу; что-то непонятное двигало
пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь
мою, что вы не почтёте ничтожным мечтателем того, который около трёх лет
неуклонно держится одной цели и которого насмешки, намёки более заставят
укрепнуть в предположенном начертании
»
Солнце, ещё не вошедшее в полную силу, лишь недавно пробудившееся и теперь
лениво разгорающееся на востоке, обещая знойный день, разрезало листву садовых
деревьев, ветви которых никли, отягощённые обильными плодами. Он сидел на
дерновой скамье, склонившись над белым листком бумаги, испещрённым неровными
карандашными строчками. Он писал стихи, время от времени останавливаясь,
задумываясь, глядя, прищурившись, на залитое солнцем небо, на тени,
отбрасываемые на землю яблоневыми и сливовыми деревьями. Увлечённый своим
занятием юный поэт не услышал шагов подошедшего сзади товарища и вздрогнул,
когда тот ударил его по плечу, воскликнув:
- Здравствуйте! Что вы делаете?
- Здравствуйте
- смутившись, отозвался поэт, поспешно спрятав в карман бумагу и
карандаш. Я
писал.
- Полноте отговариваться! Я видел издалека, что вы рисовали. Сделайте одолжение,
покажите; я ведь тоже рисую.
- Уверяю вас, я не рисовал, а писал.
- Что вы писали?
- Вздор, пустяки, так, от нечего делать, писал стишки, - остроносое лицо юноши
покрылось краской, и он потупил взор.
- Стишки! Прочтите: послушаю.
- Ещё не кончил, только начал
- Нужды нет, прочтите, что написали.
Читать свои первые вирши кому-либо почти пытка. Так и чувствуется пристальный
взор, обращённый к тебе, так и предвкушается разочарованное выражение на лице
слушающего, его деланные, лицемерные «довольно неплохо», или уж откровенные в
лоб «лучше тебе, брат, не писать» - и то и другое немилосердным хлыстом ударяет
по сердцу. И как же трудно заставить себя читать, уступить настоянию. И зачем
настаивают? Неужели, в самом деле, интересно? Или лишь делают вид?
Поэт нехотя вынул из кармана тетрадку, раскрыл и начал читать, пересиливая
волнение, севшему рядом товарищу. Когда чтение было окончено, он взглянул на
него и обнаружил, что тот вовсе не слушает его, а с аппетитом разглядывает
висящие на верхушке дерева золотистые спелые сливы, кажется, вовсе забыв о
чтении.
- Экие сливы! воскликнул товарищ, указывая пальцем на дерево.
Ничего нет бестактнее со стороны слушателя, нежели вовсе проигнорировать
прочитанное. Даже брань воспринимается менее болезненно, так как она всё же
следствие интереса. Поэт нахмурился и, сдерживая негодование, произнёс:
- Зачем же вы заставляли меня читать? Лучше бы попросили слив, так я вам
натрусил бы их полную шапку.
С этим словами он резко поднялся и так сильно тряхнул дерево, что сливы градом
посыпались с него. Оба молодых человека бросились подбирать их. Словно ни в чём
не бывало, поэт шутливо сказал, надкусывая сочный плод:
- Вы совершенно правы, они несравненно лучше моих стихов
Ух, какие сладкие,
сочные!
- Охота вам писать стихи! Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше
прозой.
- Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет
поделиться ощущениями. Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом!
Поэт резко поднялся, выпрямился, глубоко дыша и, глядя на небо, повторил с
чувством:
- Да! Не робей, воробей, дерись с орлом!
Глава 3.
Петербург, столица Российской Империи, город больших контрастов и больших
возможностей, сосредоточие интеллектуального потенциала всего государства,
город-мечта, в который стремятся со всех краёв честолюбивые юноши, потому что
именно здесь Олимп, источник славы и поражений, город-чудо, сотворённый
неукротимой волей Петра на болоте, город-диктатор, покоряющий всякого и не
терпящий нарушения своих законов. Тут уж одно из двух: или пан, или пропал, или
грудь в крестах, или голова в кустах. Либо вознестись в лучах славы, либо быть
повергнутым в пыль, и тогда ужас и позор и невозможность смотреть в глаза тем,
кому обещал, что много хорошего услышат они
Достанет ли сил? Может быть, лучше
было остаться в Васильевке и заниматься хозяйством, оставшимся теперь на хрупких
женских плечах? Татьяна Семёновна завещала ему часть наследства, но он отказался
в пользу матери и сестёр, чувствуя, что не здесь его место. О, как грустны были
бабушкины глаза, когда она вышла провожать его, уже совсем старая и хворая, но с
тем же светлым лицом, ласковыми глазами и вкрадчивым голосом, которым когда-то
пела песни и рассказывала о чудной лестнице. Вся жизнь лестница. Нельзя
остановиться на первой ступеньке, надо идти дальше. А так и врезался в память
образ хрупкой старушки, благословляющей с крыльца отъезжающий экипаж, увозящий в
неведомую даль её любимого внука
Как в последний раз
И отчего всё происходит не так, как хочется? Вот и теперь, едва въехали в
Петербург, как простуда уложила его в постель. И вместо блеска Невского
тёмная, тесная комнатушка на Гороховой, грязно одетая хозяйка, неуклюжая
толкотня слуги Якима, не знающего, куда идти за продуктами, и убивающий вид из
окна вместо привычных просторов, света стена соседнего дома
Что за тоска!
Хорошо ещё, что добрый друг Данилевский взял на себя все формальные заботы по
регистрации в столице. Счастливец! Он теперь, расфранчённый и весёлый,
разгуливал по Невскому
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в
Петербурге
»
Данилевский самый лучший, ближайший и любимый друг. Может быть, единственный
близкий друг. Брат. Друг с самых незабвенных детских дней, когда вместе
прогуливались они по дороге в Диканьку, слушая могучий звон колокола. Однажды,
когда Николай был болен и лежал в жару, именно Александр оказался у его постели,
взглянул своими живыми, участливыми глазами
Детская дружба не всегда
выдерживает испытания временем. Вот, и Данилевский, хоть и остаётся другом, а
всё-таки неудержимо отдаляется, уходит на свой путь, в свою жизнь. И никак не
удержать его. Теперь он уже не окажется рядом, как тогда в детстве, не сядет у
постели с видом участия и весёлости одновременно, от которого уже становится
легче. Вероятно, так и должно быть. Впрочем, настоящая дружба не умирает
никогда. Можно уже не общаться столь тесно, но жить в сердце друг у друга: этого
не изменить даже времени, слишком крепки узы, слишком давно связаны они
Наконец, болезнь отступила. Первая задача провинциала в столице придать себе
столичный вид. Необходимо новое платье, сапоги, перчатки, помады
И ещё надо
съехать из этой жуткой дыры. Александру неплохо и здесь, но разве же можно
существовать среди этого непрекращающегося гомона и грязи? Итак, новая квартира,
новое платье
Денег ни гроша, но не обращаться же за помощью к благодетелю
Трощинскому! Довольно уж, что отец был всю жизнь у него в долгу! Написать в
Васильевку
Придёт время и он всё отдаст. И даже больше. Только надо найти
поприще. Работу. Дело. Место. Счастливчик Данилевский! Он и здесь преуспел.
Выбрал военное поприще, поступил в школу военных прапорщиков. Всё просто и
понятно у него. Прямая стезя. И никаких мучительны сомнений и поисков. Ах, если
бы вот такую же уверенность, знание собственного места и тогда сам чёрт не
страшен. Но этого нет, а, значит, нужно испробовать всё.
Но вначале первое и главное. Поборов трепет, Гоголь, взяв с собою рукопись
поэмы, отправился прямиком к своему кумиру и учителю Пушкину. Ничего так не
желала душа его в ту пору, как лицезреть великого поэта. Он единственный
мерило всему. Единственный, чей любой вердикт должен быть воспринят покорно.
Если он одобрит первую пробу пера, то долой сомнения, то все прочие толки
ничтожны. Если же нет, то умри мечта о литераторстве. По крайней мере, никто
больше не увидит новых опусов
Чем ближе подходил Гоголь к дому поэта, тем
страшнее ему становилось. Что если не одобрит? Недовольство, скучающий зевок или
снисходительность мучительна от всякого, но от всякого это можно перенести. Но
не от Пушкина. Тут уж судьба решается. Прежде чем постучать в дверь квартиры,
Гоголь свернул в ближайшую кондитерскую, выпил там рюмку ликёра и, немного
воспрянув духом, вернулся и отважился постучать. В дверях показался слуга.
- Дома ли хозяин? осведомился Гоголь.
- Почивают, - прозвучал короткий ответ.
- Верно всю ночь работал, - с благоговением заметил Николай Васильевич.
- Как же, - усмехнулся слуга, - работал! В картишки играл!
Вот так-так
Значит, и великие не чужды земным грешкам. Картишки! Можно ли было
вообразить себе Пушкина за этим занятием? Такому гению, как он, пристало лишь
вести беседы с музами, творить
Чудно устроен человек! Самое великое
переплетается в нём с самым пустым и ничтожным
Значит, такова жизнь
Может, и к лучшему. Слишком опрометчиво было идти сразу к Пушкину. Разумнее
вначале попробовать себя. Но не открывая имени. Имя можно открыть лишь в случае
победы, а поражения знать не должен никто
В конце концов, уже опубликовано без
подписи стихотворение «Италия», отрывок из «Ганца» в «Сыне Отечества» Фаддея
Булгарина. Не настала ли пора дать ход всей рукописи? «Вздёрнуть таинственный
покров»?
Денег, присылаемых из дома, хватило на издание тиража поэмы. Под псевдонимом В.
Алов. С трепетом Гоголь ждал отзывов, но отзывы эти не оправдали надежд,
колеблясь от уничижительных оценок до снисходительного пожимания плечами.
«Московский телеграф». Н. Полевой: «Заплатою таких стихов должно бы быть
сбережение оных под спудом».
«Северная пчела»: «В сочинителе заметно воображение и способность писать, но (
)
свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась
под спудом».
Удар был велик. О счастье, что не Пушкин стал первым читателем этого позора!
Счастье, что не имя подлинного автора стоит под ним! Никто не должен знать его!
А лучше бы и вовсе, чтобы не было этой проклятой книги, чтобы никто больше не
смог прочитать, усмехнуться над неуклюжестью, бездарностью автора
Нужно
поступить с этим злосчастным творением, как со всеми прежними неудачными
опусами. Нужно было сделать это ещё раньше!
Вместе с Якимом Гоголь исходил все книжные лавки, скупил все экземпляры своей
поэмы, навсегда возненавиденной, истратив последние деньги, и, наняв номер в
гостинице, разжёг в печи огонь и предал ему вещественное свидетельство своего
позора.
Но боль не утихала. И этой болью не с кем было поделиться, потому что никому
невозможно было признаться в своём поражении, сраме. Данилевский давно
переселился к друзьям-офицерам, и Гоголь остался в одиночестве. Он бродил по
улицам чужого города, вновь чувствуя отчаянную чуждость свою всему вокруг.
Мелькали лица и силуэты в рассеянном жёлтым светом фонарей мраке невского
проспекта. Странный, обманчивый мир
Но горше всего было то, что на авантюру с поэмой ушли все деньги, которые мать
скопила за целый год и отправила сыну, чтобы он уплатил их в Опекунский совет за
заложенное имение. Этой огромной суммы никак невозможно было возместить. И даже
вечный благодетель уже не мог помочь недавно он скончался
Стыд и бессилие изменить что-либо сводили с ума
Надо же было быть самонадеянным
глупцом, чтобы так возомнить о себе, так взлететь! Но нельзя открыть подлинной
причины неизбывного горя. Нужно выдумать её, выдумать причину, в которой не так
совестно признаться, перенести всю настоящую боль в вымышленную роль и в ней
дать волю ей
«
какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в
мире. Я не могу, я не в силах написать
Маминька! Дражайшая маминька!.. Одним
вам я только могу сказать
Вы знаете, что я был одарён твёрдостью, даже редкою в
молодом человеке
Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но видел её
нет, не назову её
она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы
назвал её ангелом, но это выражение низко и не кстати для неё
Нет, это не
любовь была
я по крайней мере не слыхал подобной любви
В порыве бешенства и
ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом,
только одного взгляда алкал я.
Нет, это существо
не была женщина. Если бы она
была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких
ужасных, невыразимых впечатлений
»
От отчаяния и стыда Гоголь бежал из Петербурга, ставшего молчаливым свидетелем
его унижения. Бежал не к родным, видеть которых было бы невыносимо, смотреть в
глаза которым невозможно, а за границу. В Любек. В полном одиночестве отплыл
пароходом от родных берегов, надеясь этим путешествием утешить свою боль и
утишить бурю. Уехать, далеко-далеко уехать, забыться
«
я удивляюсь, почему
хвалят Петербург, город сей превозносят более, чем заслуживает, а я, любезная
маминька, намерен ехать в Соединённые Штаты и прочее тому подобное
»
В Америку Гоголь не поехал. Европа, едва ступил он на её землю, не понравилась
ему, и вскоре душа его затомилась в разлуке с Россией, родные края манили его, и
зов этот был сильнее всех прочих мимолётных стремлений. Успокоившись и
отрезвившись, Гоголь вернулся в Петербург. Вернулся более умудрённым и
целеустремлённым, чем прежде. «Бог унизил мою гордость, но я здоров, и если мои
ничтожные знания не могут доставить мне места, я имею руки, следовательно, не
могу впасть в отчаяние оно удел безумца».
Первый блин всегда комом
Но не останавливаться же на нём. После краха
необходимо начинать всё заново, собирать и восстанавливать по крупицам,
терпеливо и осторожно. «Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше
прозой». А ведь совет был недурён. Хорошей прозы на Руси куда меньше великой
поэзии. Вот, только бы найти свою стезю, свою ноту, свой почерк
Что же, не зря
ведь столько времени составлял он свою «Книгу всякой всячины». К чему браться за
материи чужеродные, которых никогда не видал, и перепевать с чужого голоса? Ведь
есть же у него великое богатство малая родина с её сказками, обычаями, особым
миром, о котором никто толком не писал ещё. А ну как взяться за это! Ведь уж и
начинал было, ещё до позора набросал кое-что. Но тут уж во всеоружии подходить
надо. Всё вызнать, до мельчайшей чёрточки и подробности, чтобы ожил этот мир во
всей своей красе.
«
Я думаю, вы не забудете моей просьбы извещать меня постоянно об обычаях
малороссиян. (
) Между прочим, я прошу вас, почтеннейшая маминька, узнать теперь
о некоторых играх из карточных: у Панхвиля как играть и в чём состоит он? Равным
образом, что за игра Пашок, семь листов? Из хороводных: в хрещика, в журавля.
Если знаете другие какие, то не премините. У нас есть поверья в некоторых наших
хуторах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в которых участвуют духи
и нечистые. Сделайте милость, удружите мне которою-нибудь из них».
Но литературные занятия пока не могли принести дохода, нужно было вновь
заботится о «месте», и Гоголь, помятуя свои сценические успехи в Нежине,
отправился к директору императорских театров С.С. Гагарину.
- Что вам угодно? - спросил князь.
- Я желал бы поступить на сцену и пришёл просить ваше сиятельство о принятии
меня в число актёров русской труппы, - запинаясь, ответил Гоголь, несколько
оробевший при виде сурового князя.
- Ваша фамилия?
- Гоголь-Яновский.
- Из какого звания?
- Дворянин.
- Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.
- Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня; мне кажется, что я
не гожусь для неё; к тому же я чувствую призвание к театру.
- Играли вы когда-нибудь?
- Никогда, ваше сиятельство.
- Не думайте, чтоб актёром мог быть всякий: для этого нужен талант.
- Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.
- Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?
- Я сам этого теперь ещё хорошо не знаю; но полагал бы на драматические роли.
- Ну, г-н Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это
ваше дело, - усмехнулся Сергей Сергеевич и, обернувшись к секретарю, добавил: -
Дайте г-ну Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтоб он испытал его и доложил
мне.
А.И. Храповицкий: «
присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно
неспособным не только к трагедии, но даже к комедии
»
Гоголь, читавший по тетрадке, смущённый присутствием известных артистов, сам
сознавал, что испытания не прошёл, а потому даже не пришёл за ответом.
Оставалось поступить на должность. В чине коллежского регистратора Гоголь был
принят на должность писца в департаменте уделов с окладом в 600р. в год. «В
департаменте
но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее
всякого рода департаментов
» Началась рутинная, подчинённая графику службы
жизнь.
«
В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до 3
часов; в половине четвёртого я обедаю; после обеда в 5 часов отправляюсь я в
класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в
состоянии оставить, - тем более, что здесь есть все средства совершенствоваться
в ней, и все они, кроме труда и старания, ничего не требуют. По знакомству
своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность
пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными.
Что это за люди!
Какая скромность при величайшем таланте! Об чинах и в помине нет, хотя
некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который
посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой,
иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, - которых у меня таки не мало.
Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до 25 человек
»
Климат Петербурга, резко контрастирующий с малоросским, сырой воздух,
пронизывающие ветра зимой, немилосердная духота летом сказывались на слабом
здоровье Гоголя. Нередко недуги принуждали его оставаться дома, а подчас и вовсе
укладывали в постель. Тут-то и подступала со всей силой тоска. Хотя из простого
писца он сделался помощником столоначальника, но оклад его достиг лишь 750
рублей в год, когда все чиновники в этой должности получали 1000 и более. На
квартиру и пропитание требовалось 100 рублей в месяц
«Да! Терпи, терпи! Есть же, наконец, и терпению конец. Терпи! А на какие деньги
я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст
»
Где же, где взять деньги? Опять писать любящей маминьке, просить у родных, зная,
как стеснены они? Но довольно, довольно! Всего проще опустить руки и поникнуть
головой. Отчаяние - смертный грех, и его нужно разгонять. Разгонять весельем.
Веселье истинно русское от отчаяния. Иной в кабак идёт, иной играть
А если
идти некуда? И нет ни средств, ни сил? Так развеселить себя старым проверенным
способом: выдумать что-нибудь уморительное и записать. «
мне наскучило горевать
здесь и, не могши ни с кем развеселиться, мысли мои изливаются на письме и
забывшись от радости, что есть с кем поговорить, прогнав горе, садятся
нестройными толпами в виде букв на бумагу
» «Причина той весёлости, которую
заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в
некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому
необъяснимой, которая происходила, может быть, от болезненного состояния. Чтобы
развеселить себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать»
Смех великая сила. Целительная для умеющего смеяться и страшная для тех,
против кого обращена. Смех острый клинок в ловкой руке каждый удар попадает
в цель. Но какова цель? Цель Зло. Нет в жизни цели выше, нежели борьба со злом
во имя добра. А главное зло во всех сказках исходит от нечистой силы. От чёрта.
Вот, и припечь чёрта! Посадить на горящую сковороду!
Холодны петербургские ночи. Свеча едва рассеивает мрак. За стеною храпит Яким.
На утро рано вставать и спешить в департамент, и давно пора также улечься спать,
но никак невозможно сделать этого, когда вдохновение, этот крылатый Пегас,
осёдланный и взнузданный, уносит своего седока прочь из тесных стен и летит по
небу, и с этой выси видна вся земля
Вон уже и родимая Малороссия, Васильевка,
Диканька
Точно также, но в обратном направлении полетит кузнец Вакула,
оседлавший самого чёрта
Ах, как всё-таки прекрасна ночь! И даже холод, усугубляемый бессонными ночами,
даже приступы болезни не могут истребить этого волшебства, рождённого мраком и
тишиной, в которой мысль, наконец, становится свободна и может парить в каких
угодно далях, когда воображаемый мир становится на короткое время реальностью
Хотя петербургскую ночь всё же не сравнить с малоросской
«Знаете ли вы
украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи
»
Наконец, сон смаривал, но продолжался недолго, с рассветом на улицах
пробуждалась жизнь, шумели мастеровые, гремели и скрипели орудия их труда.
«Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от неё не
иначе, как от прекрасного прерванного сна». А в департаменте уже ждала кипа
бумаг для переписывания - со всею старательностью и аккуратностью.
Такая служба, впрочем, никак не могла устроить Гоголя. Он начал заниматься
учительством. Его воспитанником стал несчастный юный князь Васильчиков,
родившийся слабоумным. Его мать искала учителя, который бы «мог развивать, хотя
несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки и
беседуя с ним целый день». Таким учителем и стал Гоголь. Летом жители столицы
спасались от жары и духоты, уезжая на дачи, в Павловск. В Павловске жили и
Васильчиковы, а с ними ещё никому не известный Гоголь. Днями напролёт он
просиживал в детской, показывал своему ученику изображения разных животных,
подражая их блеянию, мычанию, мяуканью
- Вот это, душенька, баран, понимаешь ли, баран бе, бе
Вот это корова,
знаешь, корова, му, му
По вечерам же Гоголь читал старушкам-приживалкам княгини «Майскую ночь», и те
слушали его, затаив дыхание. Его первая книга «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
в ту пору уже была сдана в набор, и он чувствовал, что замысел ему удался, книга
вышла свежей и оригинальной.
Когда работа спорится, она не утомляет, не лишает сил, но наоборот укрепляет их,
бодрит и вносит в душу лад и ясность. «Живите как можно веселее, прогоняйте от
себя неприятности
всё пройдёт, всё будет хорошо
(
) Труд
всегда имеет
неразлучную себе спутницу весёлость
Я теперь, более нежели когда-либо,
тружусь, и более нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей душе величайшее» .
Кроме труда и рождавшихся в его голове грандиозных замыслов, таких, к примеру,
как исторический роман «Гетман», материалы для которого отбирались с большим
вниманием и любовью всё это время, была и другая причина для веселья. Гоголь,
наконец, свёл знакомство со многими известными литераторами Дельвигом,
Жуковским, Плетнёвым, Вяземским
Первая робость при знакомстве с ними быстро
улетучилась. Страх перед корифеями исчез. Гоголь обращался к ним почтительно, но
в то же время, уже, ничуть не смущаясь, легко и непринуждённо, начиная
чувствовать себе цену, благодаря высокой оценке его первых повестей, не
стесняясь использовать авторитет и благоволение к себе высокопоставленных
знакомых для достижения своей цели. К тому же, будучи великолепным сердцеведом,
точно и скоро понимая характер человека, Гоголь умел подобрать нужный ключ к
каждому, к каждому найти свой подход и для каждого подобрать верный тон, чем
завоёвывал доверие. Ничего нет сложного в общении с любым человеком: нужно
только понять его и подойти с нужной стороны. «Я всегда умел уважать их
достоинства и умел от каждого из них воспользоваться тем, что каждый из них в
силах был дать мне. (
) Так как в уме моём была всегда многосторонность и как
пользоваться другими и воспитываться была у меня всегда охота, то неудивительно,
что мне всякий из них сделался приятелем
Но никогда никому из них я не
навязывался на дружбу
ни от кого не требовал жить со мной душа в душу,
разделять со мною мои мнения и т.п
» Самое любопытное, что покровители часто,
незаметно для себя, также быстро подчинялись воле Гоголя, делались ходатаями по
его нуждам, радушно распахивали свои объятья новоявленному таланту. «Мне
верится, что Бог особенное имеет над нами попечение: в будущем я ничего не
предвижу для себя, кроме хорошего».
Главным благодетелем Гоголя стал профессор Петербургского Университета П.А.
Плетнёв, не очень талантливый литератор, но добрейшей души человек, поверивший в
призвание «молодого дарования» к обожаемой им педагогике. Именно он познакомил
молодого коллегу с его кумиром и своим другом Пушкиным, которому прежде
неоднократно писал о своём протеже в превосходных тонах («Я нетерпеливо желаю
подвести его к тебе под благословение»). Встреча состоялась в доме Плетнёва.
Было много гостей, и это немало раздражало Гоголя, не любившего бывать на
публике, к тому же в роли некой диковинки, на которую все обращают взоры.
Собравшиеся гости уже занимали определённое положение, составляли свой круг, и в
этом кругу Гоголь снова остро ощутил свою чужеродность. От любопытствующих
взглядов и положения «младшего» страдало самолюбие, но приходилось терпеть. Ради
встречи с Пушкиным, о которой он грезил столько раз, а теперь, едва завидев,
впился глазами. Плетнёв подвёл его к Александру Сергеевичу и представил:
- Это тот самый Гоголь, о котором я тебе говорил.
Благословение состоялось
Когда поэт покинул вечер, Гоголь долго провожал
взглядом удаляющуюся коляску, чувствуя, как бешено колотится сердце, а
лихорадочный румянец заливает щёки.
В то время Пушкин был ещё мало знаком с творчеством Гоголя, но именно он, при
более близком знакомстве, раньше и точнее всех определит и даже предугадает суть
его дара: «Он будет русским Стерном; у него оригинальный талант; он всё видит,
он умеет смеяться, а вместе с тем он грустен и заставит плакать. Он схватывает
оттенки и смешные стороны; у него есть юмор, и раньше чем через десять лет он
будет первоклассным талантом
»
В типографии было шумно, и всякий наборщик был занят своим делом, и выражение
сосредоточенности вперемешку со скукой словно приклеилось к лицам. Но едва в
дверях показался молодой писатель с характерной украинской внешностью, как
наборщики, точно сговорившись, стали отворачиваться, давясь от смеха. Писатель
тотчас отметил это цепким взглядом серых глаз и, направившись к фактору,
полюбопытствовал у него, в чём причина столь необычной весёлости. Фактор долго
мялся и, наконец, признался:
- Штучки, что вы изволили привезти для печатания, до чрезвычайности забавны
Наборщики помирали со смеху, набирая книгу.
«Я писатель совершенно во вкусе черни», - весело подумал писатель и поделился
этим выводом в письме с Пушкиным. Александр Сергеевич отозвался тотчас:
«Поздравляю вас с первым вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями
фактора. С нетерпением ожидаю и другого толков журналистов
» И ещё: «Ваша
Надежда Николаевна, т.е. моя Наталья Николаевна благодарит вас за воспоминание и
сердечно кланяется вам
» Ах, какая досадная оплошность! Он перепутал имя жены
Пушкина. Непростительно. И отчего это так бывает иной раз спутаешь на бумаге
самое элементарное, а после красней
Между тем, Пушкин, радующийся всякому новому таланту, уже написал письмо
редактору «Лит. Прибавлений к Русскому Инвалиду» Воейкову, ставшее своеобразной
рецензией на книгу Гоголя: «Сейчас прочёл «Вечера близ Диканьки». Они изумили
меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без
чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Всё это так
необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. (
) Мольер и
Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику
с истинно весёлою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога,
возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на
неприличие его выражений, на дурной тот и проч. Пора, пора нам осмеять
les
precieuses
ridicules
нашей словесности, людей , толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у
них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и всё это слогом
камердинера профессора Тредьяковского».
Глава 4.
Весна в Петербурге была не похожа на весну в Малороссии. Но и здесь всё оживало
с приближением её. Солнце чаще заглядывало в окно, звенела колокольчатыми
голосками капель, молодые пары прогуливались по улочкам, ещё робеющие, но уже
влекомые друг к другу юные сердца бились горячо под толстым и душным покровом
шуб и шинелей, и совсем по-особому смотрели глаза их. Ожил и промёрзший зимнею
стужей Невский проспект, по которому так жаждал пройтись Гоголь, едва прибыв в
столицу. Теперь он бывал здесь довольно часто. Бродил по вечерам в тусклом свете
фонарей, вглядывался в лица прохожих, читая их, как страницы книг, запоминая и
замечая, как жизнь здесь бывает похожа на маскарад, где под прекрасной маской
может скрываться отвратительное лицо хохочущей падшей женщины. «О, не верьте
этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду
по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. (
) Вы думаете,
что эти дамы
но дамам меньше всего верьте. (
) Но боже вас сохрани заглядывать
дама под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, ни за что не пойду за
нею любопытствовать».
Данилевский, лечившийся в Пятигорске на водах, страстно влюбился в некую
красавицу, которую он именовал «Солнцем Кавказа». Красавица была неравнодушна к
подаркам, а потому Гоголю по просьбе друга приходилось искать для неё
французские духи, модные романы, ноты
Что ответить на эти жаркие излияния
друга? Отделаться, как водится, иронией? «Поэтическая часть твоего письма
удивительно хороша, но прозаическая довольно в плохом положении. Кто это
кавказское солнце? Почему оно именно один только Кавказ освещает, а весь мир
оставляет в тени, и каким образом ваша милость сделалась фокусом зажигательного
стекла, то есть, привлекла на себя все лучи его? За такую точность ты меня
назовёшь бухгалтерскою книгою или иным чем; но сам посуди: если не прикрепить
красавицу к земле, то черты её будут слишком воздушны, неопределённо общи и
потому бесхарактерны
» Но, однако же, одной иронии было мало. Нужно было
ответить что-то в тон, «поделиться сокровенным». А чем, собственно, делиться? Не
открывать же подлинного положения пусть даже и лучшему другу. Лучше и приличнее
присочинить. Пусть думает, что не он один может пылать такой страстью
«Чорт
меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба и с таким же сарказмом,
как ты, гляжу на славу и на всё, хотя моя владычица куды суровее твоей. Если б я
был, как ты, военный человек, я бы с оружием в руках доказал бы тебе, что
северная повелительница моего южного сердца томительнее и блистательнее твоей
кавказской. Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех
неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые
ensemble
дышут и уместились в её, боже, как гармоничном лице
»
И ведь лгать почти не пришлось. Эта владычица была. И имя ей было Муза. Ей он
служил с тою преданностью и жаром, с каким древние рыцари боготворили своих
прекрасных дам. Эта дама была прекраснее и желаннее всех, от её благосклонности
зависела жизнь поэта, её немилость обрекла бы его на гибель.
Многие знакомые вступали в брак, и Гоголь не раз задумывался о своей будущности
в этом плане. Но будущность эта казалась туманной и фантастичной, она почти
пугала. Иные могут совмещать служение Музе и земной женщине, для кого-то они
сливаются в единое целое, но иначе относился к своему служению Гоголь. Нельзя
разрываться, нельзя служить двоим, иначе это окончится дурно. Вот, и Пушкин,
кажется, не очень счастлив в семейной жизни. Поэт должен быть один.
Священнодействие искусства требует полной отдачи, всех сил душевных и
физических. Нельзя совмещать, необходимо избрать одно. Жена
Зачем, собственно,
жена? «
жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог
подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей
комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере
того, чем более углублялся он в размышление». Муза вот, единственная спутница
поэта. Его божество, его сестра, его жена
Именно. Жена. Поэт женат на своей
Музе, и изменять ей грех. Жаль, конечно, не узнать простого человеческого
счастья, но его должно принести в жертву служению более высокому. «Очень понимаю
и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось
испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в
одно мгновение. Я бы не нашёл себе в прошедшем наслаждения, я силился бы
превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия и потому-то к
спасению моему у меня есть твёрдая воля
(
) Ты счастливец, тебе удел вкусить
первое благо в свете любовь
А я
»
Седьмое небо после выхода в свет «Вечеров
» показалось, в самом деле, совсем
недалёким. Гоголь упивался своим успехом, временами даже теряя чувство меры. Он
старался придать себе весу, принимая тон важного человека, в письмах матери
наказывал выбранить почтмейстера за чрезмерно долгие задержки писем и посылок,
сочинив, будто бы лично жаловался на то уже князю Голицыну и директору почтового
департамента Булгакову (уловка, к слову, подействовала), а однажды и вовсе велел
ей и другим знакомым посылать всю корреспонденцию ему «на имя Пушкина, в Царское
Село», не спросив согласия самого Пушкина. Вышел конфуз, за который Гоголь затем
путано извинялся, валя всё на «глупость корреспондента». Свои новые связи, даже
самые слабые, он старался изобразить, как самые тесные и короткие. «Почти каждый
вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я
» Желая стать как можно скорее
«своим» в том кругу, в который лишь успел вступить, Гоголь выдавал желаемое за
действительное. «Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге
»
Завоевав Петербург, Гоголь отправился в Москву, где также сумел произвести самое
благоприятное впечатление. Здесь он свёл знакомство с профессором, историком и
известным издателем М.П. Погодиным, гостеприимным семейством Аксаковых,
Щепкиным, чья слава начиналась в Полтаве, патриархом русской литературы И.И.
Дмитриевым
Сергей Тимофеевич Аксаков был в восторге от «Вечеров
» и тотчас согласился на
просьбу Гоголя познакомить с М.Н. Загоскиным. К автору «Юрия Милославского»
направились пешком. По дороге Гоголь начал жаловаться на одолевающие его недуги,
присовокупив, что болен неизлечимо.
- Помилуйте, чем же? поразился Аксаков, с недоверием поглядев на молодого
литератора, которого при его весёлости и кажущейся бодрости трудно было
вообразить тяжело больным.
- Стоит ли говорить об этом, - махнул рукой Гоголь. Причина кроется в кишках
Никакие лекарства не помогают. Это очень редкая болезнь
Но, впрочем, не стоит
об этом
- Должно быть, вы правы
Скажите, в таком случае, какого вы мнения о Загоскине?
- Большой талант. И много весёлости. Это важно. Без веселья какая жизнь?
Однако, он пишет не то. В особенности для театра.
- Полноте, Николай Васильевич, у нас и писать не о чем, в свете всё так
однообразно, гладко, прилично и пусто, что «
даже глупости смешной в тебе не
встретишь, свет пустой!»
- Это неправда, - покачал головой Гоголь, - комизм кроется везде, но, живя
посреди него, мы его не видим; если же художник перенесёт его в искусство, на
сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что
прежде не замечали его
Загоскин, хотя не оценил «Вечеров
» вполне, польщённый вниманием, встретил
гостей нарочито радушно. Он говорил без умолку, рассказывая о своих путешествиях
по всему свету. Путешествий этих не бывало в помине, Михаил Николаевич просто
вдохновенно сочинял. «Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век
с ним жил, совершенно в пору и в меру» . Загоскин был очарован. Когда Николай
Васильевич ушёл, пообещав наведаться вновь, Аксаков спросил хозяина:
- Ну что, как понравился тебе Гоголь?
- Ах, какой милый! воскликнул Загоскин. - Милый, скромный, да какой, братец,
умница!
В этот период жизни, Гоголь ощущал небывалый прилив сил. Ему казалось, что всё
удастся ему, даже самые огромные и смелые замыслы. Он увлёкся историей и
замахнулся написать историю Малороссии в 6 томах, а позже и многотомную среднюю
историю. Ему не нравилась сухость изложения истории и казалось, что он один
знает, как нужно изложить её так, чтобы было интересно, чтобы древность
воскресала перед глазами читателей, увлекала их и оседала в памяти. Трудно
запомнить человеку бесстрастное изложение фактов, но, если акты эти помножить на
жгущий сердца людей глагол, вложить в них пламя сердца, оживить своим даром
образы прошлого то совсем по-иному раскроются страницы прошлого! Если суметь
написать историю живым, образным языком, то какая великая польза будет от того
для просвещения, для Отечества! Писатель и учитель не родственные ли это
стези? Не так же ли выпукло и ярко должен учитель доносить до учеников свой
предмет? А до чего скучны бывают лекции! «Что за история, если она скучна!»
Дурной преподаватель может убить всякую охоту к предмету. Всё закладывается в
детстве и отрочестве, когда душа восприимчива ко всему, но нужно, чтобы было что
воспринимать, а потому «слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный»,
«преподаватель должен быть обилен сравнениями».
Эта мысль овладела воображением Гоголя, он ощутил в себе призвание к педагогике,
и тут ему с радостью помог Плетнёв, устроивший его младшим учителем истории в
Патриотическом институте. На своих уроках Гоголь старался избегать штампов, он
говорил вольно, много импровизировал, шутил и смеялся вместе с ученицами. После
выхода «Вечеров
» на лето Николай Васильевич уехал в Васильевку, где его слава
раздувалась до невероятных масштабов. Здесь он задержался на три месяца,
поставив в крайне неудобное положение Плетнёва и начальницу института.
Вернувшись, он сослался на некие недуги, задержавшие его. Проштрафившегося
учителя не уволили, но решили вычесть жалование за пропущенные месяцы. Но Гоголь
исхитрился и тут: устроил в институт своих сестёр и первый взнос потребовал
внести как раз из той суммы, которую ему не выплатили незаработанный оклад был
возвращён
В призвание Гоголя поверили все его знакомые, включая Пушкина. Благодаря его и
Жуковского протекции, совсем ещё молодого человека без учёных степеней и научных
трудов назначили адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории
Санкт-Петербургского университета. О, какой это был невероятный взлёт! Теперь на
него были обращены взоры цвета русской молодёжи, теперь он владел вниманием
целой аудитории, в которую мог приходить каждый
Его лекции будут свежими,
захватывающими, он не повторит ошибок старых профессоров, он превзойдёт их
талантом и мастерством! Лекции писались по ночам, вдохновенно, как литературные
творения, и до чего упоительно было ощущать, что дело удавалось, что выходило
ровно то, что желалось. Гоголь не читал лекций по бумаге, а выучивал их на
память и произносил, включая свой актёрский дар, создавая видимость экспромта.
Кафедра превращалась в театр одного актёра, но каков был театр и каков актёр!
Ученики пребывали в восторге. «Невозможно было спокойно следить за его мыслью,
которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за
картиной в этом мраке средневековой истории» . А однажды на лекцию пожаловали
Жуковский и Пушкин. Гоголь знал об их приезде заранее, но сделал вид, что этот
визит стал для него сюрпризом. Читать лекцию в присутствии Пушкина серьёзный
экзамен! Тут уж никак нельзя было ударить лицом в грязь, нужно было оказаться на
высоте, нужно было прочесть не просто лекцию, но лекцию, рассчитанную именно на
этих двух гостей, лекцию, отвечающую их мыслям и чаяниям.
Когда слушатели, включая поэтов, заняли свои места, Гоголь легко поднялся на
кафедру и увлечённо заговорил о восточном правителе Аль-Мамуне. Аудитория
замерла, ловя каждое слово учителя, восхищаясь его мастерством, а он говорил,
набирая высоту и всё более вдохновляясь:
- Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун
не понял его. Он упустил из виду великую истину, что образование черпается из
самого же народа, что просвещение наносное должно быть такой степени
заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что
развиваться народ должен из своих же национальных стихий
По окончании Пушкин и Жуковский подошли к Гоголю и долго выражали своё
удовольствие от прослушанной лекции. И то была высшая похвала!
Но вскоре запал, с каким принялся Гоголь за дело, прошёл. История становилась
ему скучна, системный подход, без которого невозможно преподавание, вызвал
отторжение, хотелось творчества, свободы, вдохновение на лекции иссякло, все она
сделались «очень сухи и скучны
Какими-то сонными глазами смотрел он на
прошедшие века и отжившие племена
» Гоголь стал реже появляться в аудитории,
иногда отсутствовал по две недели. Слушатели были разочарованы, а сам
преподаватель уже обратил свой взор на Киев, где вознамерился сделаться
ординарным профессором всё той же всеобщей истории. Отчего-то ему казалось, что
там дело пойдёт иначе. Признаваться себе в отсутствии подлинного призвания к
педагогике, в том, что это было лишь временное увлечение, не хотелось. Просто
виноват был петербургский климат, сырой и холодный, навивающий тоску и вгоняющий
в сон. То ли дело Киев, куда направляется как раз счастливец Максимович! «Итак,
вы поймаете ещё в Малороссии осень, благоухающую, славную очень, с своим свежим,
неподдельным букетом. Счастливы вы! А я живу здесь среди лета и не чувствую
лета! Душно, а нет его. Совершенная баня; воздух хочет уничтожить, а не оживить»
.
Мыль о Киеве прочно укоренилась в мыслях Гоголя и о своём отъезде он говорил
уже, как о свершившемся факте, будучи уверен, что ходатайства Пушкина,
Вяземского и Жуковского к их бывшему товарищу по Арзамасу, а ныне министру
просвещения Уварову, вкупе с написанным самим соискателем планом преподавания,
возымеют мгновенно нужное действие. «Во мне живёт уверенность, что если я
дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых
профессоров, которыми набиты университеты. Я восхищаюсь заранее, когда воображу,
как закипят труды мои в Киеве
»
Но на этот раз протекция не помогла. Попечитель Киевского учебного округа Брадке
имел свою креатуру на просимую Гоголем должность, а потому предложил Николаю
Васильевичу место адъюнкт-профессора или профессора русской истории. Гоголь
гордо отказался, рассчитывая «дожать» упрямого Брадке. Но коса нашла на камень,
и переезд в Киев не состоялся. Больно, больно получать такие удары, больно,
когда ставят на место. А, главное, стыдно. Стыдно собственных знакомых, перед
которыми так занёсся, которым уже раструбил о своём скором назначении, а иные из
них уж наверное за глаза ухмыляются: что, мол, конёк резвый, обломали тебе твои
быстрые ноги? Вначале ещё делал хорошую мину при плохой игре, говоря о временных
задержках, хорохорился. «Нет гранита, которого бы не пробили человеческая сила и
желание». Но и призрачная надежда была развеяна окончательно. Приходилось идти
на попятную, почти оправдываться
«Я немного обчёлся в обстоятельствах своих».
Вот, верно же говорит пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь канавку. А
он сказал, а перепрыгнуть не смог. Стыдно. Но и в таких огорчениях есть польза,
они отрезвляют, и более ясным взглядом можно увидеть себя и свои обстоятельства
Преподавательская карьера Гоголя сошла на нет. Горько было сознавать это и,
временами, тоска овладевала душой, но он гнал её прочь. «У нас на душе столько
грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это
чёрт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем
шумнее должна быть новая весёлость» .
Оканчивался 1833-й год, год «ужасных кризисов», наступал новый, и к нему обращал
теперь Гоголь полный надежд взор, чувствуя прилив творческих сил, ему клялся, к
нему взывал так, как взывают к возлюбленной или божеству.
«Великая торжественная минута. У ног моих шумит моё прошедшее, надо мною сквозь
туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений. О
не скрывайся от меня
Какое же будешь ты, моё будущее?.. О будь блистательно,
будь деятельно, всё предано труду и спокойствию!.. (
) Я не знаю, как назвать
тебя, мой гений!.. О взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные
очи. Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною
хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой.
Жизнь кипит во мне. Труды
мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!.. О
поцалуй и благослови меня!»
После выхода «Вечеров
» Гоголь писал мало. «Багаж», привезённый из дому, был
исчерпан, свежих же идей не приходило. Все ждали от него новых «штучек» на манер
«Диканьки», но это был уже пройденный этап. Нужно было искать новых тем, иногда
что-то возникало в уме, начинало писаться и обрывалось от ясного сознания, что
выходит «не то». «Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою.
О, не знай его!
Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается
в злость, он один составляет оппозицию против всего, он ужасно издевается над
собственным бессилием» . Для Гоголя не было муки большей, нежели не писать. Лишь
работая, он чувствовал себя нужным, полезным, в эти часы он был царь и бог,
творец, своим талантом прозревающий глубины человеческого сердца, создающий
яркие образы, в эти часы он не раб лукавый, зарывший в землю дарованный талант,
но добрый раб, умножающий его и тем исполняющий свой долг. Гоголь-писатель
поднимался на недосягаемую высоту, но Гоголь-человек вне своего дела оставался
всего лишь бедным, мелким чиновником без поприща, на которого любой лакей глядел
свысока, «маленьким человеком», не имеющим ничего за душой. С Гоголем-писателем
как с ровней говорят князья, Гоголя-человека может окинуть презрительным взором
любой ничтожный чиновник, имеющий крупицу власти. Вечное унижение. «Погоди,
приятель! Будем и мы полковником, а, может быть, если бог даст, то чем-нибудь и
побольше. Заведём и мы себе репутацию ещё и получше твоей» . В писательском
труде утешалась вечно унижаемая гордость и желание приносить пользу. Может быть,
отчасти именно поэтому ударился Гоголь в педагогику, надеясь ей восполнить
вакуум творческого простоя, обеспечить себе положение, звание и место вне звания
писательского, столь ненадёжного, ещё многими не воспринимаемым всерьёз. Даже
родня жены самого Пушкина желала, чтобы великий поэт имел чин и официальное
поприще. Но стать профессором не удалось и можно было бы впасть в отчаяние, если
бы Музы вновь не явила свой милостивый лик
«Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил». За счастливый
1834-й год Гоголь написал две книги «Арабески» и «Миргород», в которые вошли
повести «Вий», «Старосветские помещики», «Портрет», «Невский проспект», «Записки
сумасшедшего», «Женихи» (будущая «Женитьба»)
Но главном творением в этом ряду
стал «Тарас Бульба». Увлечённость историей Малороссии, наброски романа «Гетман»
не прошли даром, послужив основой для этой повести, заслужившей восторженные
похвалы самых разных критиков и общественных слоёв. Это был эпос, первое
произведение, в котором Гоголь заявил о себе не только как о бытописце, писателе
нравов, сатирике. Всегда мечтая написать вещь серьёзную, трагическую, великую,
он, наконец, создал повесть, отвечающую этим чаяниям, и в голове его уже начал
зарождаться план трагедии из жизни запорожских казаков
В отличие от «Бульбы» остальные повести Гоголя встретили неоднозначный приём в
журнальной среде. И в этот-то момент явилась статья В.Г. Белинского «О русской
повести и повестях Гоголя», в которой тогда ещё начинающий критик писал, что
«Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в
настоящее время он является главою литературы, главою поэтов, он становится на
место, оставленное Пушкиным». Статья эта была весьма кстати и очень понравилась
Гоголю, в первую очередь, той тонкостью, с которой Белинский определял качества
истинного творчества: «Ещё создание художника есть тайна для всех, ещё не брал
пера в руки, а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья,
морщины их чела, избражденного страстями и горем, - а уже знает их лучше, чем вы
знаете своего отца, брата, друга, свою мать; сестру, возлюбленную сердца; также
он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая
обовьёт их и свяжет между собою»
- Это совершеннейшая истина, - сказал Гоголь, прочитав этот отрывок.
Однако, Пушкин ещё не оставил своего места, как поспешил заявить Белинский.
Пушкин готовился к изданию своего журнала, идею которого вынашивал давно. Он
оставался первым и главным критиком Гоголя, и этот критик сочувственно принял
новые повести.
Между тем, Гоголь мечтал создать нечто новое для театра, любовь к которому не
проходила с годами. Смех великое оружие и, обладая им, грех палить по
ничтожным мишеням, пора дать залп по подлинному злу. Каково же главное зло в
России? Неправые суды, воровство, взяточничество не с ними ли намеревался
бороться ещё в Нежине, изучая право и намериваясь заниматься юстицией? Не вышло
правоведа, так можно бороться с этим злом иным способом собрать всё худшее,
что есть на Руси и разом высмеять! Но где взять сюжет?.. Спросить совета
Пушкина! «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной
или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать
комедию». Пушкин
припомнил случай, как его однажды приняли за ревизора. Подобное случалось и с
его знакомыми. Гоголь решил испытать это на себе. По дороге из Киева в Харьков
он вместе со своими спутниками Данилевским и Пащенко разыграл целый спектакль.
Пащенко выезжал вперёд и возвещал на всех почтовых станциях, что следом за ним
инкогнито едет ревизор из Петербурга, притворяющийся простым
адъюнкт-профессором. Следом прибывали Гоголь и Данилевский, которых встречали
весьма любезно. Гоголь, виртуозно играя свою роль, невинно спрашивал показать
ему лошадей, задавал иные подозрительные вопросы. В итоге, испуганные смотрители
давали им в числе первых лучших лошадей, тогда как обычно заставляли ждать до
последнего, и друзья быстро и весело проделали свой путь.
Служба в университете, между тем, была завершена окончательно. «Неузнанный я
взошёл на кафедру и неузнанный схожу с неё. Но в эти полтора года годы моего
бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за своё дело взялся в эти
полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души» . Теперь
Гоголь был полностью поглощён идеей комедии. За прототипом для главного героя
Скакунова, позже переименованного в Хлестакова, не нужно было и ходить далеко.
«
я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною
дрянью
» А ведь и в самом деле эким Хлестаковым размахнулся на университетском
поприще профессор по наитию! Так и прорывались во всё это время замашки
хвастуна, уверовавшего в собственные басни. Да и прежде того Хлестаков давал
себя знать. Вот так и проучить в себе этот огрех, самого себя высмеять. Впрочем,
найдётся ли человек, который хоть изредка хоть самую малость не делался бы
Хлестаковым?
Смех великая сила
Но различен источник его. Часто смех призван заглушить
собственную печаль. Сколько раз в болезненные и тоскливые минуты нарочно
сочинялись уморительные сценки, чтобы развеяться
«И почему знать может быть,
будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный
человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как
исполин, среди бед, - в силу тех же самых законов, кто льёт часто душевные,
глубокие слёзы, тот, кажется, более всех смеётся на свете!..» «Смеяться,
смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь
давать на театр, приношу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в
Москву, вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части
»
19-го марта 1836-го года высший свет во главе Государем Императором
присутствовал на премьере «Ревизора» в Александринском театре. Государь смеялся,
смеялись и остальные, и лишь автор готов был провалиться сквозь землю и в
продолжение всего действа, сидя в окружении вельмож, которым оставался чужд,
которые продолжали смотреть на него свысока, испытывал подлинную муку. Не то
играли актёры, не на то и не так реагировала публика. «Ныла душа моя, когда я
видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мёртвых обитателей,
страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа
моя, когда на бесчувственных лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от
того, что повергло в небесные слёзы глубоко любящую душу, и не коснел язык их
произнести своё вечное слово: «побасёнки!» Не выдержав этого мучения, Гоголь
сбежал из театра, не дождавшись конца представления. Он бросился к старому
нежинскому товарищу Прокоповичу, и тот протянул ему только что вышедшую книгу
«Ревизора»:
- На, полюбуйся на своё дитя.
Гоголь бессильно опустился за стол и, уронив голову, простонал:
- Никто, никто не понял!
«Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего
святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня,
купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвёртое
представление нельзя достать билетов» .
Разумеется, не всё так безнадёжно и отчаянно, но Гоголь всегда был склонен
преувеличивать размеры несчастья, и теперь ему виделся полный провал своего
детища, его позор, а потому он разом потерял всякую охоту заботиться о нём
дальше, заниматься постановкой в Москве. «Мочи нет. Делайте, что хотите с моею
пиесою, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты
о ней
»
Упрёки исходили, в самом деле, с самых разных сторон. Иные литераторы нападали
за грубость языка, за отсутствие эстетики, будто бы пьеса оскорбляла
общественный вкус. Наконец, сердились, что не было ни одного положительного
героя во всей комедии.
«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица бывшего в моей пьесе. Да
было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во всё продолжение её.
Это честное, благородное лицо был смех. Он был благороден потому, что решился
выступить, несмотря на низкое значение, которое даётся ему в свете. Он был
благороден потому, что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное
прозвание комику прозванье холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в
присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за это смех» .
Однако были и те, кто высоко оценил «Ревизора». Одна беда, даже среди них было
мало тех, кто понял его, как должно. Многие подходили к пьесе с узких
идеологических платформ и ценили её за мнимую «фронду», записывая автора в свои
ряды, ряды обличителей не пороков, живущих в каждом, а режима, и тем невольно
принижая его.
«Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять
указанья слабых и смешных собственных сторон» . Умом нетрудно всецело осознать
эту истину, но душа будет продолжать болезненно сжиматься от каждой критики,
даже обоснованной. И может быть, прежде всего, от обоснованной. Глупой критикой
можно пренебречь, списать её на невежество критикующего, но критика справедливая
язвит пребольно, потому что она вызывает тотчас упрёки самому себе, раздражение
не против глупого критика, а против себя самого
Было и ещё одно обстоятельство, удручающее Гоголя, о котором он не говорил ни с
кем, переживая его внутри себя. Приглашённый Пушкиным в «Современник», он с
жаром принялся за работу. Он горел желанием помочь Пушкину. Он выступал на брань
со всеми журнальными и литературными оппонентами «Современника» с тем, чтобы не
оставить от них камня на камне. Не того желал Пушкин, но на этот раз Гоголь не
угадал нужного тона, не проявил той дипломатичности, которая была ему так
свойственна. Он ввязался в схватку, в которой противники обменивались уколами
рапир, с тяжёлой палицей, которой поспешил размазать по земле всех: и своих, и
чужих. Таковой палицей стала статья Гоголя «О движении журнальной литературы в
1834 и 1835 году», где автору явно изменило чувство меры. Досталось совершенно
всем от Булгарина и Греча, исконных врагов Пушкина, до Загоскина и Погодина,
друга самого Гоголя. Прочитав статью, Пушкин вынужден был настоять на
вымарывании из неё отдельных мест (в частности, упоминания об оскорблениях,
нанесённых Гоголю редактором самого крупного журнала «Библиотека для чтения»
Сенковским) и снятия подписи автора. Это было едва ли не больнее, чем все толки
вокруг «Ревизора». Пушкин не понял его, и это было самым горьким. Позже, когда
скорректированная статья увидит свет, то вызовет большой скандал, в авторстве
будут подозревать даже Пушкина. Александр Сергеевич выступит под псевдонимом и
напишет отзыв на статью Гоголя, в которой посоветует: «Врачю, исцелися сам!» Сам
Гоголь в это время уже будет за границей
О разладе с Пушкиным, также преувеличенном в собственных глазах, он не
обмолвился никому, по обыкновению, скрывая самые сильные потрясения, и причину
своего крайне удручённого состояния списал исключительно на неудачу «Ревизора» и
болезненное состояние. «И то, что бы приняли люди просвещённые с громким смехом
и участием, то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее.
Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины;
сказать, какую-нибудь только живую и верную черту значит, в переводе,
опозорить всё сословие и вооружить против него других, или его подчинённых.
Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно своё отечество и
своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий
его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? (
) Всё, что ни
делалось со мною, всё было спасительно для меня: все оскорбления, все
неприятности посылались мне высоким провидением на моё воспитание. И ныне я
чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня»
.
«Еду заграницу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои
соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов
должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне
»
Тяжко, тяжко оставлять Родину. Даже и веря, что не навсегда, что в любой момент
можно вернуться. Тяжела разлука с милыми сердцу людьми, с привычным образом
жизни со всем родным и дорогим. Но бывает так, что оставаться тяжелее вдвойне.
Пьянящий кубок славы уже испит. Накопленный прежде запас исчерпан, а повториться
невозможно. Есть грандиозный замысел, но великих сил требует он, а силы эти
нещадно распыляются на обеды и вечера, на журнальные склоки на «обязанности»
известного литератора. И никак не изменить того, чтобы не обвинили в гордыни, в
манкировании, чтобы не сочли себя оскорблёнными даже друзья. И всё это, как
петля, удушает, не даёт вздохнуть, остановиться, размыслить, оглядеться
Суета
сует. А сил надолго ли хватит? Ведь и Пушкин не так давно увещевал, что при
столь слабом здоровье нужно непременно, не откладывая, взяться за вещь
серьёзную, и, как всегда, был прав. Но как среди этой суеты углубиться в
серьёзное? Нет, одним ударом разрубить гордиев узел, расстоянием спастись от
тесных объятий, освободиться
«Мне хочется поправиться в своём здоровьи,
рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание,
обдумать хорошенько труды будущие. Пора мне уже творить с большим размышлением
»
Но больно, невыносимо больно разрывать узы с дорогими людьми. Счастье, что хоть
ближайший друг Данилевский согласился также проехаться по Европе. Но а другие?
Мать, сёстры, Жуковский, Плетнёв..? «Разлуки между нами не может и не должно
быть, и где бы я ни был, в каком бы отдалённом уголке ни трудился, я всегда буду
возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам.
Вечно вы будете представляться мне слушающим меня читающего» . Больно рвать
нити, но необходимо во имя высшей цели, во имя дела, для которого одного, может,
и вся жизнь только и дана была. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает
обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход
свой из детства, проведённого в школьных занятиях, в юношеский возраст» .
Но всего горше разлука с Пушкиным. С учителем. Со светочем. «Когда я творил, я
видел перед собой Пушкина». С ним даже и проститься не удалось. Но и это
необходимо. Может, только расстоянием и можно спасти ту духовную связь, давшую
трещину при чрезмерном сближении на почве совместной работы в «Современнике».
Пушкин отдалился, Пушкин не понял, не оценил ретивости своего молодого
сотрудника (а ведь, в первую голову для него, и были все старания!), Пушкин
занят своими хлопотами
Продлись ещё это сотрудничество, и трещина разрослась бы
в пропасть, и уж это было бы величайшим горем, потому что большего несчастья,
нежели потерять Пушкина, просто не может быть. Расстояние сглаживает все углы,
на расстоянии всё видится иначе. Может, как раз расстояние и поможет заживить
рану, и по возвращении, при новой встрече с Пушкиным всё станет на свои места
Впереди Европа, почти не знакомая, почти чужая, новая жизнь. Позади триумфы в
литературном мире, головокружения от славы и смелые замыслы, не удавшаяся
карьера педагога, непонятость и шумные споры вокруг «Ревизора», неудачная работа
в «Современнике»
Нет, всё правильно, всё к лучшему. «Могу сказать, что я
никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть
не в состоянии были ни на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей
обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни, и нынешнее моё удаление из
отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим всё
воспитание моё. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне
много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни
за что на свете я не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в
чужой земле. И хотя мысли мои, моё имя, мои труды будут принадлежать России, но
сам я, но бренный состав мой будет отдалён от неё» .
Глава 5.
Чудной город Париж! И чудной и чудный. И люди в нём сплошь развлечённые. И,
большей частью, политикой. «Здесь всё политика, в каждом переулке и переулочке
библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки
журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, чем о
своих собственных» . Париж Гоголя развлёк, но не приворожил надолго. Слишком
шумен он был, слишком не доставало ему, европейскому ветренику той глубины и
сосредоточенности, которая была необходима Гоголю. «Париж город хорош для того,
кто именно едет для Парижа, чтоб погрузиться во всю его жизнь. Но для таких
людей, как мы с тобою, - не думаю
» Тем не менее, он провёл там довольно
продолжительное время, осматривая достопримечательности и с особенным
удовольствием посещая итальянскую оперу и театры, которые произвели на него
огромное впечатление уровнем мастерства, которого так не хватало в театрах
русских. Гоголь развеивал хандру и попутно размышлял над планом «Мёртвых Душ»,
сюжет которых подарил ему Пушкин. «Огромно велико моё творение, и не скоро конец
его. Ещё восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж
мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение! Кто-то
незримый пишет предо мною могущественным жезлом. Знаю, что моё имя после меня
будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами,
влажными от слёз, произнесут примирение моей тени» . Зимой Гоголь несколько раз
бывал в гостях у А.О. Смирновой-Россет, также бывшей тогда в Париже. Александра
Осиповна родилась в Малороссии, и потому все вечера проходили в разговорах
родном крае, пелись украинские песни, столь любимые и собираемые Гоголем,
сыпались шутки
Между тем, оставленная родина начала звать к себе, стоило только
расстаться с нею. «Теперь предо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце
моём Русь, - не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь
»
В это время из России пришла громовая весть. Не стало Пушкина. «Что месяц, что
неделя, то новая утрата; но никакой вести хуже нельзя было получить из России.
Всё наслаждение моей жизни, всё моё высшее наслаждение исчезло вместе с ним.
Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того,
чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему
посмеётся, чему изречёт неразрушимое и вечное одобрение своё вот что меня
только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет не вкушаемого на земле
удовольствия обнимал мою душу
(
) Невыразимая тоска!» Это был страшный удар для
Гоголя. Могли думать он, покидая Россию, что никогда больше не увидит Пушкина?
Сильнее, чем когда-либо, Гоголь ощутил своё полное одиночество. Он остался один
на вершине завоёванного Олимпа, правопреемником и наследником Пушкина. Но об
этом он не в силах был даже подумать. «Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как
русский, как писатель, я
я и в сотой доле не могу выразить всей моей скорби.
Моя жизнь, моё высшее наслаждение умерло с ним» . Казалось, что со смертью
Пушкина всё кончено. Даже Россия сделалась какой-то другой, чужой. Россия без
Пушкина
Разве это Россия? «Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь
меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов
на родине?» Жизнь, однако, не кончена. Остался долг. Долг перед Пушкиным. «Я
должен продолжать мною начатой большой труд, который писать взял с меня слово
Пушкин, которого мысль есть его создание и которой обратился для меня с этих пор
в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю,
чтобы она была долговечна
»
Местом своего пребывания за границей Гоголь избрал Италию. «Она моя! Никто в
мире её не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы,
департамент, кафедра, театр всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине
»
Но, несмотря на это неразрывна была связь с Россией. «Непреодолимою цепью
прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнажённые
пространства предпочёл я лучшим небесам
Ни одной строки не мог я посвятить
чуждому». Жизнь в тёплом и солнечном Риме с его величавым спокойствием,
многовековой глубиной, с неспешным течением времени и великолепными красотами,
далёкими от нанеси современной суеты, была хороша, но средства к существованию
быстро иссякли. «
я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели
в наше время могут умирать с голоду
» Парадокс! Написав столько произведений,
которыми зачитывалось русское общество, ни единого дня в жизни не пребывая в
праздности, он оказался нищ, нищее самого ничтожного чиновника или дьячка в
России. «В чужой земле я готов всё перенести, готов нищенски протянуть руку,
если дойдёт до этого дело. Но в своей никогда». Между тем, руку Гоголь
всё-таки протянул. Не в прямом смысле слова, конечно. Протянул в Россию. К
друзьям, у которых вынужден просить в долг. Жизнь в долг что может быть
тяжелее и унизительнее? Тяжко быть всё время обязанным кому-то. Отец всю жизнь
был должником Трощинского, сам Гоголь оказался обязан отнюдь не одному человеку.
И, хотя они все люди благородные, от этого не легче. Но иного нет выхода. Нужно
работать над «Мёртвыми Душами», а эта работа требует всех сил, и ни на что иное
не остаётся их, а, значит, нужно вновь и вновь ломать свою гордость, просить.
«
Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он
милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему
«Ревизору». Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдёте его написанным
как следует, будьте моим представителем, вручите! Если же оно написано не так,
как следует, то он милостив, он извинит бедному своему подданному
» Государь
откликнулся на просьбу Гоголя, переданную ему Жуковским и послал
вспомоществование в размере 4-х тысяч рублей
В Риме Гоголь близко сошёлся с художником Александром Ивановым, с которого во
второй редакции «Портрета» будет списан художник, соученик несчастного Чарткова,
чьё полотно так поразило его. Этот удивительный человек посвятил жизнь написанию
своей великой картины «Явление Христа народу», он отошёл от мира, жил, подобно
монаху, шаг за шагом, год за годом доводя до совершенства свой замысел. Гоголь
часто бывал в мастерской Иванова, восхищался этим самоотречением, терпением и
святости служения художника, видя в нём пример для себя. Также как Иванов, он
стремился к совершенству задуманного творения, его абсолютной отточенности.
Приехавшему в Рим Жуковскому Гоголь читал первые главы своей поэмы. «Забавно и
больно» - записал о них Василий Андреевич. Но в отличие от Иванова Гоголь не был
способен полностью удалиться от мира, жить в абсолютном затворе. «
странное
дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с
кем поговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем
пространством времени, неразграниченным и неразмеренным».
Работа продвигалась медленно. Сказывалось и ухудшающееся здоровье. «Увы!
Здоровье моё плохо! И гордые мои замыслы
О друг! если бы мне на четыре, пять
лет ещё здоровья
Пожалей о мне!» Он был ещё молод. Ему едва исполнилось 30, но
он чувствовал себя уже древним старцем. «
тяжело очутиться стариком в лета, ещё
принадлежащие юности
» А если приведётся дожить до старости настоящей? С её
совершенной немощью и омертвелостью чувств? Нет, это ещё хуже смерти.
Погребённость заживо
Страшна старость
«Нынешний же пламенный юноша отскочил бы
с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. (
) Грозна, страшна
грядущая впереди старость, и ничего не отдаёт назад и обратно! Могила
милосерднее её, на могиле напишется: «Здесь погребён человек!», но ничего не
прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости»
Тем не менее, он продолжал время от времени шутить, устраивая целые
представления, смеша всех присутствующих. «Преуморительные были сцены», -
отмечал Погодин. Весёлость била через край, била почти нарочито, а затем
сменялась меланхолией, тоской, и Гоголь уединялся в тишине церквей, ища
успокоения и подкрепления угасающих сил в чём-то высшем
Между тем, настало время возвращаться в Россию. Нужно было забрать сестёр из
Патриотического института и устраивать их судьбу. Ехать не хотелось отчаянно, но
пришлось. Вместе с Погодиным Гоголь прибыл в Москву. «Я в Москве. Покамест не
сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось сильно. Но долг и обязанность
последняя: мои сёстры» . Он надеялся уладить дела за два месяца и уехать обратно
в Рим, а до тех пор остановился у Погодина. В столицу забирать сестёр Гоголь
поехал вместе с Аксаковыми. В неё, опустевшую после смерти Пушкина, ехать не
хотелось вдвойне. «
одного я никак не мог предчувствовать смерти Пушкина, и я
расстался с ним, как будто бы разлучался на два дня. Как странно! Боже, как
странно! Россия без Пушкина! Я приеду в Петербург и Пушкина нет» . Это
сиротливое чувство не покидало Гоголя во время всей поездки.
Странная штука жизнь
Стоило ступить на родную землю, и целый водопад ликований,
приветствий, приглашений обрушился на него, словно все эти годы только его и
ждали здесь, и ждали чего-то от него. Чего-то великого. Чего? Тяжел груз
ответственности, вдруг сваливающийся на слабые плечи, ответственности перед
этими полными ожидания взорами. «Русь, чего же ты хочешь от меня?» Но ответа на
этот вопрос не было, потому что разделившееся на партии и лагеря русское
общество ожидало разного. Как каждая партия видела только свою Русь, так видела
только своего Гоголя. Каждая партия старалась залучить его в свой лагерь, словно
бы уже был он чьей-то собственностью, был обязан мыслить исключительно
определённым образом, и мысли другие непременно вызывали обиды, словно бы
являлись изменой, хотя кому мог изменить писатель, не присягавший на верность ни
одному лагерю, искавший единства, а не раскола, в котором каждая часть гордо
мнит себя целым. Звали в свою партию москвичи во главе с Погодиным, звал
Плетнёв, звал Белинский
«
они все встретили меня с разверстыми объятиями.
Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим,
пристрастившись к одной какой-нибудь любимой идее и встречая в других
противников своему мнению, ждал меня как какого-то мессию, которого ждут евреи,
в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против
других, считая это первым условием и актом дружбы
(
)
началось что-то вроде
ревности
Каждый из них на месте меня составил себе свой собственный идеал, им
же сочинённый образ и характер и сражался с собственным своим сочинением в
полной уверенности, что сражается со мною» . Нет, нельзя писателю примыкать
совершенно к одной какой-то партии, иначе она уж возомнит, что имеет право на
него и обратиться в диктатора, иначе оскорбятся все прочие, а писатель не должен
раскалывать, но наоборот объединять, ибо блаженны миротворцы. «Искусство не
разрушенье»
Ещё несколько лет назад были лишь движения литературные, а ныне
политика стала овладевать умами и сеять вражду между талантливыми и по-своему
любящих своё Отечество, желающих блага, искренними и благородными людьми. Отчего
это? «Почти у всякого образовалась в голове своя собственная Россия, и оттого
бесконечные споры
»
Странная штука жизнь
Столько славы и почестей, а ни гроша в кармане. Ни угла
своего, ни денег на то даже, чтобы приодеть сестёр. Спасибо сердобольному
старику Аксакову, который тотчас же дал необходимую сумму, до слёз тронутой тем,
как стыдясь и краснея, Гоголь пытался сформулировать свою нужду
Столько славы,
а такая непроглядная нищета, от которой впору завыть. Ни малейшей надежды
расплатиться с долгами, но приходилось занимать ещё. Участь вечного должника,
нахлебника что может быть унизительнее?
Вместе с сёстрами Гоголь остановился у Погодина, своего главного кредитора. Вот,
кто, может, более других чувствовал своё «право». Ему нужны были не только
материалы в журнал, но и откровенность, открытость души. А скрыть это не хватало
такта. Бывший крепостной, ставший профессором университета, он слишком знал, что
почём в этой жизни и не привык упускать своего. Кулак, как есть кулак!
Пребывание в его доме сделалась для Гоголя настоящей пыткой. А приходилось
занимать вновь и вновь уже у других, почти по-хлестаковски, без надежды отдать.
Чтобы хоть как-то поправить своё положение, Гоголь решил издать свои сочинения,
ради чего пришлось кланяться главному книготорговцу Смирдину
Кланяться,
кланяться, кланяться ради обожаемых «голубушек» сестёр и матери приходилось
идти на поклон ко всем. А, между тем, гостиные, посещение которых также
сделалось в тягость, рукоплескали ему, когда он читал первые главы своих
«Мёртвых Душ». Ах, если бы хоть часть этих рукоплесканий можно было перевести в
деньги
Если бы вовсе никогда можно было не думать о деньгах! Какая
несправедливость: любая должность приносит доход, а труд писателя не ставится ни
во что, словно бы он бездельник и небокоптитель
Всё время пребывания на родине Гоголь мучился своим положением должника и мечтал
лишь об одном: вновь оказаться в Италии, в прекрасном Риме, где вовсю цвела
весна. «Какая весна! Боже, какая весна! (
) Как хороши теперь синие клочки неба
промеж дерев, едва покрывшихся свежей, почти жёлтой зеленью, и даже тёмные, как
воронье крыло, кипарисы, а ещё далее голубые, матовые, как бирюза, горы
Фраскати и Албанские, и Тиволи! Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то
по крайней мере семьсот ангелов влетают в носовые ноздри. Удивительная весна!..»
Сестёр устроить не удалось. Одну пришлось отправить к маменьке, другую оставить
в Москве на попечение малознакомой особе
Средств было столь мало, что едва
хватало на собственный отъезд, и Гоголь дал объявление в газету в поисках
человека, который бы согласился разделить с ним расходы на дорогу в Рим в
дилижансе. Таковым попутчиком стал молодой родственник Аксаковых.
Перед отъездом в честь именин Гоголя в саду Погодина собралась вся московская
интеллигенция. Среди гостей был невысокий молодой поручик в пехотной форме. М.Ю.
Лермонтов. О нём Гоголю много говорил Белинский. Тогда состоялась их встреча.
Лермонтов уже создал почти все главные свои произведения, ими пестрели страницы
журналов. Ему было 26, но какая-то тень лежала на челе его, тень роковой
предначертанности, сквозившей и в поэзии его. «
он уже с ранних пор стал
выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось ещё ни
у одного из наших поэтов
» Этот молодой человек даже талант свой ни во что не
ставил, и это пренебрежение Божьим даром поразило и почти ужаснуло Гоголя. В тот
вечер Лермонтов был весел, в отличие от молодых москвичей вовсе не стеснялся
его. Впрочем, Гоголь был всего пятью годами старше его
Лермонтов читал ему
«Мцыри» в прохладном, полном ожидания дождя саду. Ему оставалось жить всего лишь
год, Гоголю двенадцать лет
Их пути расходились, сойдясь на перекрёстке,
расходились навсегда. Лермонтов уезжал на Кавказ, чтобы погибнуть там, Гоголь
в Италию, чтобы пережить глубокий духовный перелом и возвратиться в Россию
Наконец, хлопоты, унижения и мучения были завершены, с небольшим багажом Гоголь
поместился в дилижанс и тронулся в путь. В дороге ему всегда хорошо думалось,
дорога словно защищала его, вырывая из тисков повседневной жизни. Мысли текли
ровно, новые образы и картины рождались перед глазами, и в душе водворялся мир.
«Боже! как ты хороша подчас, далёкая, далёкая дорога! Сколько раз, как
погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно
выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грёз,
сколько предчувствовалось дивных впечатлений!..» Вокруг лежали печальные
просторы родной земли. Впереди ждало солнечное великолепие Италии. «Бросьте всё!
и едем в Рим. О если б вы знали, какой там приют для того, чьё сердце испытало
утраты. Как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни!
Боже, боже, боже! О мой Рим! Прекрасный мой, чудесный Рим! Несчастлив тот, кто
на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца
прошли, и он на возвратном пути к тебе. Клянусь, как ни чудно ехать в Рим, но
возвращаться него в тысячу раз прекраснее
»
Тиха поступь смерти. Она подходит, нежданная, непрошенная, обдаёт холодом своего
мертвящего дыхания, протягивает руку
«Малейшее какое-нибудь движение,
незначащее усилие, и со мной делается чорт знает что. Страшно, просто страшно. Я
боюсь. А так было хорошо началось дело. Я начал такую вещь, какой, верно, у меня
до сих пор не было, - и теперь из-под самых облаков да в грязь»
А как всё
прекрасно казалось совсем недавно! В Вене мариенбадская вода сделала настоящее
чудо: пробудила от летаргического сна, вернула бодрость юности и вдохновение!
Вот, теперь-то драма из украинской истории не могла не выйти! «Сюжет, который в
последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься
за него, развернулся предо мною в величии таком, что всё во мне почувствовало
сладкий трепет, и я, позабывши всё, переселился вдруг в тот мир, в котором давно
не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось
во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей». И
воды отомстили за это нарушение
О, какой холод, какой пронзающий, парализующий
холод! Какая чудовищная тяжесть в груди, какое напряжение и раздражение нервов,
вызванное «страшным воображением», а к тому остановка пищеварения
«
то, что
могло помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на
желудок. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания». Вот
она, смерть. Страшна смерть. Ужасна смерть. То же было и с несчастным
Вьельгорским
Прелестный юноша с прекрасным будущим сгорел от чахотки на глазах
Гоголя, не отходившего от него. Умирающий уже не мог говорить, а только писал на
листках блокнота, а Гоголь говорил. Он смотрел на бедного страдальца,
потрясённый этой несправедливо ранней кончиной, этой страшной победой смерти над
цветущей жизнью, и представлял, как однажды, должно быть, довольно скоро, смерть
ледяной и безжалостной рукой постучится и в его дверь
И, вот, постучалась. Вот,
она чёрная бездна, из которой нет сил выбраться. И для чего именно теперь?
Теперь, когда не окончено, не исполнено ещё начатое дело. Горько уходить, не
завершив
Страшно не успеть
«Мне бы два года теперь
только два года
» Два года
работы! Их бы хватило, чтобы закончить, а там можно и умереть с сознанием
исполненного долга
И не здесь, здесь бы следовало провести их
В России! Как
глупо, однако
Всю жизнь знать, что жизнь эта будет коротка, предчувствовать
смерть, а при приближении её впасть в панику
А доктора? Доктора развели руками
и, кажется, уже поставили крест
Но нет, слишком уж мерзко было бы умереть среди
этих бюргеров. Уехать, немедленно уехать! Бежать! «Дорога, моё единственное
лекарство, оказала и на этот раз своё действие. Я мог уже двигаться»
С приездом
в Рим болезнь стала отступать. «Я до сих пор не могу понять, как я остался жив,
и здоровье моё в таком сомнительном положении, в каком я ещё никогда не бывал
»
Остался жив
Смерть отступила
Отчего отступила она? Лишь волей единого
Создателя это могло быть
Стало быть, для чего-то помиловал Господь. Для
исполнения чего-то главного и высшего продлил срок пребывания души в бренном
теле. И, значит, теперь единая святая обязанность исполнить то, ради чего
воскрешён из разверзнувшейся бездны, и этому долгу отныне должна быть подчинена
вся жизнь. Странное чувство воскрешение. Робкая радость, ещё не верящая в
чудо, боящаяся спугнуть его. Должно быть, так первые травинки пробуждаются
весною из-под снега
«Чудно милостив и велик бог: я здоров. Чувствую свежесть,
занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мёртвых Душ». Вижу, что
предмет становится глубже и глубже. Даже собираюсь в наступающем году печатать
первый том, если только дивной силе бога, воскресившего меня, будет так угодно.
Многое совершилось во мне в немногое время
» О, сколько пользы выходит от
недугов! И не роптать нужно на них, а благодарить
«
слыша ежеминутно, что жизнь
моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором
основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принесть душа
моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких
процентов на данные мне Богом таланты, и буду осуждён, как последний из
преступников
Слыша всё это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как
благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно
всякий недуг, веря вперёд, что он нужен. Молитесь богу только о том, чтобы
открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла»
Глава 6.
«Всякий перелом, посылаемый человеку, чудно-благодателен. Это лучшее, что только
есть в жизни. Звезда и светильник, указующий ему, наконец, его настоящий путь».
Первый том «Мёртвых душ» был, наконец, завершён, оставалось лишь подчистить
отдельные фрагменты. Его издание вкупе с заново отредактированными «Ревизором» и
«Портретом» должны были поправить материальное положение Гоголя. «В начале же 42
года выплатится мною всё
Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я
прижму вас к моей русской груди. Всё было дивно и мудро расположено высшею
волей: и мой приезд в Москву, и моё нынешнее путешествие в Рим всё было благо»
.
Всё, всё в нашей жизни устроено мудро и верно, всё предначертано рукой
Создателя, всё происходит в нужный час, и великий грех ропот на высший
промысл, благо которого не всегда становится очевидным тотчас. Болезни всегда
считались на Руси не карой, но милостью, посещением Божиим. Слаб человек и,
когда благополучен, редко вспоминает Бога, черства душа его, чтобы каяться и
здесь, в этой жизни, оплакивать грехи свои, и, вот, болезнь укрощает его,
заставляя страдать плоть, спасает бессмертную душу для жизни вечной. «Не будь
тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! Каким бы значительным
человеком вообразил себя!» Недуги помогают смирению, а смирение первая
добродетель
«Вся жизнь моя отныне один благодарственный гимн!»
Церковь Христова есть церковь кающихся. Покаянием спасается грешная душа,
покаянием и искуплением. Художник больше, чем кто-либо, должен беречь чистоту
души, потому что его душа, как в зеркале, отражается в его творениях, и, если
черна душа, то не смеет он касаться ликов святых, потому что сквозь них
проступят черты дьявола
«Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели
нанести кому-нибудь одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в
себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему
не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде,
стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ
обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда
как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в
будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна» .
Когда-то ещё на первых ступенях своего творческого пути Гоголю довелось услышать
анекдот из жизни некого бедного чиновника. Будучи страстным охотником, он,
отказывая себе во всём, усиленными трудами скопил сумму на покупку дорогого
ружья и, счастливый, пустился на лодке по Финскому заливу. Бедняга не заметил,
как ружьё было стянуто в воду густым тростником, и отыскать его было никак
невозможно. Вернувшись домой, чиновник слёг с горячкой и был возвращён к жизни
только благодаря товарищам, которые собрали деньги и купили ему новое ружьё. Все
смеялись этому анекдоту, и лишь Гоголь задумался и опустил голову. Теперь же,
спустя годы, на основе этой трагикомической истории была создана повесть
«Шинель».
Настала пора вновь ехать в Москву. Но на этот раз он возвращался в Россию не с
пустыми руками, возвращался в состоянии душевного подъёма и просветлённости. «И
как путешественник, который уложил уже все свои вещи в чемодан и усталый, но
покойной ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далёкий, верный
желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь
внутренною удалённою от мира жизнию, покойно, неторопливо по пути, начертанному
свыше, готов идти укреплённый и мыслью и духом»
Россию Гоголь нашёл ещё более разделённой на лагеря, каждый из которых ещё более
деспотично пытался записать его в свои ряды. «
ещё никогда не бывало в России
такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех
людей, никогда ещё различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от
друга всех и не произвело такого разлада во всём. Сквозь всё это пронёсся дух
сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и
ничтожных заключений. Всё это сбило и спутало до того у каждого его мнение о
России, что решительно нельзя верить никому
»
Обижался Белинский, чувствуя, что Гоголь «отходит» от верного пути, обижаясь на
нелестные отзывы о Париже в «Риме» и подозревая своего недавнего кумира в
славянофильстве, обижались москвичи, потому что именно Белинскому доверил Гоголь
везти в Петербург рукопись «Мёртвых Душ»
Наконец, нанесла свой удар и цензура:
московская вовсе запретила выход поэмы, столичная - задержала её выход и
потребовала серьёзным образом урезать «Повесть о капитане Копейкине». Положение
Гоголя становилось отчаянным, почти бедственным. «Всё моё имущество и состояние
заключено в труде моём. Для него я пожертвовал всем, обрёк себя на строгую
бедность, на глубокое уединение, терпел переносил, пересиливал сколько мог свои
болезненные недуги в надежде, что, когда совершу его, отечество не лишит меня
куска хлеба
(
) Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить вспомоществования
и милости, я прошу правосудия, я своего прошу: у меня отнимают мой единственный,
мой последний кусок хлеба. Почему знать, может быть, несмотря на мой трудный и
тернистый жизненный путь, суждено бедному имени моему достигнуть потомства. И
ужели вам будет приятно, когда правосудие потомства, отдав вам должное за ваши
прекрасные подвиги для наук, скажет в то же время, что вы были равнодушны к
созданьям русского слова и не тронулись положением бедного, обременённого
болезнями писателя, не могшего найти себе угла и приюта в мире
» Мытарства с
этим делом затянулись не на один месяц. Гоголь был в страшном волнении и засыпал
письмами своих высокопоставленных друзей, прося помочь скорейшему разрешению
«Мёртвых Душ». «Всё задержал Никитенко. Какой несносный человек! Более полутора
месяца он держит у себя листки «Копейкина» и хоть бы уведомил меня одним словом,
а между тем все листы набраны уже неделя тому назад, и типография стоит, а время
это мне слишком дорого. Но бог с ними со всеми! Вся эта история есть пробный
камень на котором я должен испытать, в каком отношении ко мне находятся многие
люди. Я пожду ещё два дни, и если не получу от несносного Никитенка, обращусь
вновь в здешнюю цензуру, тем более, что она чувствует теперь раскаяние, таким
образом поступивши со мною» .
Между тем, уже вовсю благоухала явившаяся в столицу весна, благовествуя и звеня
во все свои колокольчики. Из окна Гоголя открывался великолепный вид на Девичье
поле, на бело-красные стены Новодевичьего монастыря, на его сияющий купола с
устремлёнными в лазоревое небо крестами, вокруг которых вились грачи и вороны
Этим чудным видом можно было любоваться часами. Весна время счастливое. Весною,
наконец, завершились хлопоты с цензурой, и «Мёртвые Души» поступили в набор.
Теперь можно было уезжать. В Италию. Нужно было завершить начатую гигантскую
работу. «Ад» был уже написан. Но впереди были ещё «Чистилище» и «Рай». Ад
описать проще. Ад страсти, гложущие ежечасно человеческую душу. Страстей много
в душе, а потому легче переносить их на бумагу. Но как перенести на неё
добродетели, коих нет в душе? Нет, написание такого произведения дело не только
таланта литературного, фантазии и знаний. То дело души. Духа. Прежде нужно
стяжать те добродетели, которые ждёт вывести перо и в этом самый главный,
самый великий труд. Труд христианина, алчущего верно служить Господу. «
пуще
всего старайся постигнуть великую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий
ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же
велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит
невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило
высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намёк о божественном,
небесном рае заключён для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше
всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во
сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой
невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны,
- во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства.
Всё приноси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей
земным вожделением, но тихой небесной страстью; без неё не властен человек
возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для
успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не
может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к богу
»
Прощание с Москвой, как и в прошлый раз, состоялось в саду Погодина 9-го мая.
Шушукались, спорили, подозревали в чём-то, ревновали
«Какую глупую роль играет
моя странная фигура в нашем родном омуте»
Гоголь слушал кипящие вокруг него
разговоры, чувствуя в них всё более разгорающуюся непримиримость к чужому
мнению, расслоение общества, путаницу, раздор, распрю
Не то, не то нужно
России, русскому обществу, народу
Что проку от этих распрей? Только усиление
путаницы и разлада. Только разрушение, а его не должно быть. Нужно не разрушать,
а объединять, «ставить и строить». Строить и устраивать. И начинать с души.
Настанет порядок в душе и в жизни порядок будет. А вражда партий лишь умножает
беспорядок. Народ должен стать един и крепок духом, каким был в 1812-м и 1612-м
годах, и в этом спасение от всевозможных язв. «
так рванётся у нас все
сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой,
и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды всё бывает позабыто, брат
повиснет на груди у брата, и вся Россия один человек» . А начитанные умники
столичных гостиных, не умеющие найти общего языка между собою какое
просвещение хотят нести они «тёмному» народу, чем хотят питать его душу? Своим
расколом и путаницей? Камнем вместо хлеба? Да ведь народ «тёмный» мудрее их,
живя в простой своей вере простой жизнью. Нет, нельзя просвещать народ, не
просветив вначале себе, иначе не благо, а разрушение внесено будет в народную
жизнь
Когда бы примирить всех, когда бы показать, объяснить, достучаться
Но
поймут ли? Услышат ли?
Перед отъездом сообщил всем, что вернётся назад через Иерусалим, где намерен
поклониться гробу Господню. Пожимали плечами, молчали, а мысленно махнули рукой:
новые чудачества. Не поняли. Не поверили. Заподозрили в позёрстве. И почему так:
если человек бессовестно выставляет напоказ тёмные стороны своего естества, так
к тому и претензий нет, а попытайся только он поделиться лучшим в своей душе
так уже не верят, смеются, обвиняют в лицемерии. И принужден человек лучших
сторон своих стыдиться и прятать от сторонних глаз
Примирять и объединять вот, подлинная задача искусства. Этой целью возгорелся
Гоголь, взваливая на себя тяжкий подвиг. «Я чувствовал всегда, что я буду
участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдётся примиренье
многого
» Достучаться до сердец своих соотечественников, указать им спасительный
для них и для всей России путь хотелось ему. Борьба со злом продолжалась. И в
этой борьбе видел он свой долг перед Богом и людьми. «Так, стало быть, следует,
чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул как собака, без
доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой
пользы? Так на что же мы живём, на какого чёрта мы живём?»
Тираж «Мёртвых Души» расходился с огромной скоростью. Поэма вызвала ожесточённые
споры: от восхищения до возмущения и обвинений автора в ненависти к России и
желании нарочно представить её в чёрном свете, от недовольства общим тоном поэмы
и её пошлыми, ничтожными героями до презрительных оценок авторских отступлений,
в которых автор «слишком высунулся». От всех знакомых Гоголь требовал критики.
«Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно»
. «Ради нашей дружбы будьте взыскательны, как только можно, и постарайтесь
отыскать во мне побольше недостатков, хотя бы они даже показались вам неважными.
(
) Тому, кто стремится быть лучше, чем есть, не стыдно признаться в своих
проступках перед всем светом. Без сознанья не может быть исправленья» . Нельзя
было приступать к высоким материям, не очистив прежде себя, не подняв себя на
должную высоту. «Скажу только, что с каждым днём и часом становится светлей и
торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья
и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитание души моей, что я
стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей
моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слёзы и что живёт в душе моей
глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу,
которая предстоит мне, хотя я стою ещё на нижайших и первых её ступенях. Много
труда и пути, и душевного воспитания впереди ещё! Чище горнего снега и светлей
небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и
великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования»
Уединившись в любимом Риме, Гоголь погрузился в чтение Библии, житий святых,
духовной литературы, ища совершенствования своей души для совершения своего
грандиозного замысла. Для него, человека, для которого «не писать значило не
жить», этот перерыв был тяжёл, но дело никак не двигалось с мёртвой точки.
Работа над вторым томом подчас напоминала труд Сизифа: написанные фрагменты
безжалостно уничтожались огнём, и всё начиналось заново, с исходной точки.
Вдобавок ощутился вдруг и недостаток знаний о России, вызванный долгой разлукой
с нею. «В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом
государстве не совершится и в полвека. (
) Чтобы узнать, что такое Россия
нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому» . Он и рад бы был
проездиться по городам и весям на птице-тройке, подобно Чичикову, но силы были
уже не те, но времени оставалось всё меньше и меньше, и Гоголь умолял своих
корреспондентов подробнейшим образом писать ему о России, надеясь в этих письмах
расслышать её голос, услышать ответ на свой вопрос
А Россия ждала продолжения «Мёртвых Душ». Многие удивлялись такому промедлению,
поторапливали. «Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит
на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно
другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку.
Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьёзно каким-нибудь делом, уж его
торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, - скажут:
«Зачем поторопился?»
Поэма не шла, здоровье ухудшалось, но это ничуть не остужало жажду добра и
самосовершенствования. Наконец, Гоголь нашёл ту лестницу, о которой слышал в
детстве. Лестницу, ведущую на седьмое небо. Лестницы служебные, ступени славы
всё это ничтожно в сравнении с лестницей, ступенями которой возвышается дух,
устремлённый к Богу. «Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда ещё
телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело,
такая страшная усталость чувствуется во всём остове тела, что рад бываешь, как
Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберёшься до постели. Часто,
в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом,
когда оглянёшься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь ничего уже не
издаёт душа, кроме одних слёз и благодарения» .
И всё-таки недуги оказались слишком сильны. Гоголь попытался спастись от них
проверенным способом: бегством. Но куда было бежать? Из Рима в Париж, из Парижа
во Франкфурт
«Я дрожу весь, чувствуя холод беспрерывный и не могу ничем
согреться. Не говорю уже о том, что исхудал весь как щепка, чувствую истощение
сил и опасаюсь очень, чтобы не умереть прежде путешествия в обетованную землю» .
Хуже всего было то, что душу раздирали колебания, а колебания едва ли не самое
невыносимое состояние, самая изощрённая пытка, само по себе способное довести до
болезни. Колебания вызывал частично написанный, вымученный насилием воли второй
том, колебание вызывал дальнейший маршрут следования. Безумно хотелось вернуться
в Россию. Но как? «Стыдно и лицо показать» . Стыдно было вернуться с пустыми
руками, нарушить данное обещание. Вернуться с этим стыдом домой было немыслимо.
«
и мне все чужие, и я всем чужой» . Ни по одному вопросу невозможно было
принять решения. «Ещё бы было возможно это, если б не соединялось с недугами это
глупейшее нервическое беспокойство, против которого если понатужишься
воздвигнуть дух, то самая эта натура воздвигнуться производит ещё сильнейшее
колебание
» Смерть вновь подошла к нему вплотную. На этот раз она не была столь
страшна, как прежде, но страшно было оставить потомкам дурной труд, не достойный
прочтения и служащий позором своему автору. Второй том «Мёртвых Душ» был сожжён,
и вслед затем смерть отступила
«Друг мой, укрепимся духом! Примем всё, что ни
посылается нам богом, и возлюбим всё посылаемое, и как бы ни показалось оно
горько, примем за самый сладкий дар от руки его. Злое не посылается богом, но
попускается им для того только, чтобы мы в это время сильней обратились к нему,
прижались бы ближе к нему, как дитя к матери при виде испугавшего его предмета
»
И всё же страх смерти, страх не успеть завершить большой труд, побудил Гоголя
объясниться с уставшей ждать публикой. «Все свои дела в сторону и займись
печатанием этой книги, под названием «Выбранные места из переписки с друзьями».
Она нужна, слишком нужна всем; вот что, покамест, могу сказать; всё прочее
объяснит тебе сама книга. (
) Печатай два завода и готовь бумагу для второго
издания, которое, по моему соображению, воспоследует немедленно: книга эта
разойдётся более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя
единственная дельная книга» .
В этой книге, дошедшей до читателя в сильно изуродованном цензурой виде, Гоголь
первым из русских писателей выступил в качестве публициста, коснувшись
практически всех сторон русской жизни, вопросов общественных и духовных. «Мне
хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного,
потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны,
находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях
» Переписка в
книге была использована лишь частично, большинство статей были написаны
специально. «Выбранные места
» были, по сути, воззванием к России, ко всему
русскому обществу, к каждому русскому сердцу, криком человека, увидевшего
надвигающуюся смертельную опасность и пытающегося предупредить тех, кто ещё не
узрел её и остановить на пути к пропасти. «Соотечественники! Страшно!.. замирает
от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных
высших творений бога, перед которыми пыль всё величие его творений, здесь нами
зримых и нас изумляющих». «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские
возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша,
какие страшилища от них подымутся
» То был глас вопиющего в пустыне, глас, при
звуке которого, многие постарались замкнуть слух и воздвигнуть на автора
всевозможные обвинения, исторгнутые подчас не здравым рассуждением, а
раздражением и злобой. Более всех негодовал Белинский и его единомышленники. Ими
выступление Гоголя было воспринято, как измена, и «неистовый Виссарион» не
скупился в эпитетах в адрес бывшего кумира, низвергаемого теперь в прах.
Славянофилы, включая Аксакова, заподозрили Гоголя в помешательстве, и Сергей
Тимофеевич даже предлагал не выпускать книгу в свет. Если Белинского возмутила
идеология, то всех прочих менторский тон, тон учителя, которым подчас грешил
Гоголь. Этот упрёк в отдельности был справедлив, что признавал и сам Гоголь,
говоря, что в своей книге «размахнулся таким Хлестаковым», но за этими, в
сущности, шероховатостями, не пожелали увидеть главного и слепо ринулись хулить,
не вникнув и не разобрав, оскорблённые в собственной гордости, обличая гордость
«самозваного учителя», обвиняя его в безумии. «Поразительно, в то время, когда
уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба
другой дорогой, с другого кона входит в мир, - дорогой ума
Уже и самого ума
почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить противу собственного своего
убеждения из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в
ошибке уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума. (
) Уже ссоры и брани
начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей
нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично
из-за несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже обазовались
целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений ещё не имевшие и
уже друг друга ненавидящие»
«Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений,
не делал ничего, чтобы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я поверил и
для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим
сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком...» - написал
некогда Гоголь своему дяде из Нежина. Скрытный всю жизнь, он никогда не
распахивал своей души так, как в «Переписке». «Прочь пустое приличие!
Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают
» Но
соотечественники нашли подобное выказывание любви лицемерием, ханжеством и
безумием. Слухи о сумасшествии Гоголя разошлись по всей России, об этом судачили
повсюду, сплетничали, смаковали, придумывали. Даже самые приличные и благородные
люди оказались втянуты в эту порочную путаницу, внося в неё свою лепту. Но,
однако же, и в хуле, выговоренной сгоряча, можно почерпнуть крупицы истины.
Велика наука терпеливо сносить её, велика наука, уча других, оставаться самим
учеником и учиться у каждого. «Мы уже так странно устроены, что до тех пор не
увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что
одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное
показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью
ищет слышать всё о себе, так ловит все суждения и так умеет дорожить замечаниями
умных людей даже тогда, когда они жестоки и суровы, такой человек не может
находиться в полном и совершенном самоослеплении. (
) Не слишком ли вы уже
положились на ваш ум и непогрешимость его выводов? Делать замечания это другое
дело; это имеет право делать всякий умный человек, и даже просто всякий человек;
но выводить из своих замечаний заключение обо всём человеке это есть уже
некоторого рода самоуверенность
»
Болезненнее нападок было цензурное невежество, много поспособствовавшее
превратному пониманию «Переписки», из которой были выброшены самые важные части.
«Всё, что для иных людей трудно переносить, я переношу легко с божьей помощью, и
не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно
отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго
желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты» . Поток критики
Гоголь принял со смирением. Вглядываясь в себя последнего времени, он понял, что
в своей религиозности едва не сделался гордецом, сурово уча всех и утратив
прежнюю нежность даже к родным. «Появления книги моей разразилось точно в виде
какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и наконец ещё сильнейшая
оплеуха мне самому. После неё я очнулся, точно как будто после какого-то сна,
чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел
намерение» . Осознав это, Гоголь тотчас переменил тон своих последних писем,
принося извинения всем знакомым и родственникам за свою заносчивость за всё,
чем, может быть, невзначай обидел их.
Между тем, в обществе разгорелась дискуссия, предметом которой стали многие
вопросы, поднятые Гоголем, и это была несомненная заслуга, но далеко не то, чего
желал он. Своей книгой Гоголь искал примирить расколотое русское общество, но
эффект вышел обратный. Сторонниками «Переписки» выступили немногие. Среди них
князь Вяземский и П.А. Плетнёв, назвавший гоголевскую книгу великой. Большинство
же продолжало сердиться. Но каждый отзыв Гоголь ловил с жаром, стараясь лучше
понять состояние русского общества и себя самого, пытаясь собрать во всей
полноте картину подлинной России, так необходимую для работы над вторым томом
«Мёртвых Душ». «Одна из причин печатания моих писем была и та, чтобы поучиться,
а не поучить. А так как русского человека до тех пор не заставишь говорить,
покуда не рассердишь его и не выведешь совершенно из терпения, то я поставил
почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны задрать за живое» .
«
Тебя удивляет, зачем я так жаден слышать толки о моей книге. Затем, что я
очень жаден знать людей, а в толках о моей книге всё-таки более или менее
обрисовывается передо мною человек со всем своим знанием и невежеством и, что
всего важнее, открывает мне своё собственное душевное состояние
»
Душевное состояние некоторых вызывало большое огорчение и опасение за них самих.
К таким принадлежал, в первую очередь, Белинский, разразившийся гневной статьёй
в «Современнике». «
я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому
близорукому взгляду и мелким заключениям. (
) Если в нём кипит желчь, пусть он
её выльет против меня в «Современнике», в каких ему заблагорассудится
выражениях, но пусть не хранит её против меня в сердце своём» . Отвечать
разгневанному человеку гневом глупо: это лишь умножит обоюдное раздражение и
ничем не поможет. «Русский человек, да ещё и в сердцах!» Лучше выждать, покуда
он остынет, а затем попытаться примириться и зарастить, если возможно, возникшую
трещину. Вообще, очень неосмотрительно писать или говорить что-либо сгоряча,
пребывая в раздражении. Раздражение застит взор и не даёт оценить видимое
трезво, а оттого выходят подчас чудовищные перекосы, как, казалось, вышло и в
статье Белинского. «Такая логика может присутствовать только в голове
рассерженного человека, ищущего только того, что способно раздражать его, а не
оглядывающего предмет спокойно со всех сторон» .
Но гневные выпады Белинского не были плодом одной лишь горячности, свойственной
ему. Это не было даже оскорблённое самолюбие, но гораздо хуже: оскорбление идеи,
оскорбление его истины и, наконец, оскорбление его веры в самого Гоголя, как
прогрессиста и вождя, оскорбление изменой. На самом деле, никакой измены не
было. Гоголь в «Переписке» ничуть не изменил всегдашним основам своего
миропонимания, лишь развив их, углубив, слегка пересмотрев отдельные детали.
Суть оставалась неизменной. Цель борьба со злом и служение общей пользе
оставалась прежней. Но в «Переписке» не было художественного вымысла, героев,
литературы как таковой, а был один лишь автор, выставивший на всеобщий суд свою
душу, была исповедь, и она была принята за измену некому общему делу, которого у
Гоголя с Белинским в силу различия взглядов не было и не могло быть. Оно
существовало лишь в воображении Белинского, самовольно записавшего Гоголя в ряды
«своих», и теперь, увидев в нём «чужого», «врага», он страдал и, страдая, пылал
ещё сильнейшим негодованием. Вновь путаница послужила причиной столь острого
возмущения.
Белинский ответил Гоголю пространным письмом, выплеснув в нём всю свою обиду и
ожесточение. Если в статье пыл критика сдерживала цензура, то в письме, писанном
к тому же за границей, он дал себе полную волю, нападая уже не только на Гоголя,
но на основу и опору всей его жизни Бога. Ненависть к Богу, к религии, к
Православию в особенности кипела в Белинском. Смертельно больной, на пороге
могилы он посылал проклятия Творцу, и это глубоко ужасало Гоголя. Как должен
быть несчастен человек, в душе которого горит такое чудовищное пламя ненависти к
Тому, кто суть сама Жизнь, как нестерпима должна страдать душа его, испепеляющая
себя
Белинский доказывал, что русский народ, о котором он, как будто бы пекясь,
высказывался крайне пренебрежительно, антирелигиозен, что нужно как можно скорее
упразднить ложь попов и поставить Россию на путь прогресса, научить тёмный народ
новой истине и повести его к счастью. И чему же собирался учить народ человек с
такой расстроенной, полной ожесточения душой? К какому раю стремился он вести
других, нося в собственной душе такой ад? Гоголя Белинский обвинял в незнании
России
Откуда бы знал её он сам, проведший век свой в Петербурге и знавший о
жизни остальной России по слухам? Обвинял в самоуверенности, а сам не истиной ли
в последней инстанции возомнил себя? Горько было читать эти строки. Горько, в
особенности, от того, что писал их человек, по натуре, не дурной, способный к
высоким порывам, порядочный. Откуда взялась такая ожесточённость? Обо всём этом
хотелось сказать Гоголю, ответить на несправедливые обвинения, он составил даже
черновик письма, но не отправил его, не дал волю свои чувствам. Белинский был
болен, ему оставалось жить совсем недолго, и любое волнение сокращало отпущенный
ему жалкий срок и, наконец, могло просто убить его. Об этом забывать было
нельзя. «И вы и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но
сознаетесь ли вы? Точно таким же образом, как я упустил из виду современные дела
и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким ж образом упустили
и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне
нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам следует
узнать хотя бы часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете. А
покамест помыслите о вашем здоровье
»
Шум вокруг «Переписки» при всей его тягости дал толчок к новому витку работы над
«Мёртвыми Душами». «Пока не сделаешь дурно, до тех пор не сделаешь хорошо» . «Да
книга моя нанесла мне поражение; но на то была воля божия. Да будет же
благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и
не увидал бы так ясно, чего мне не достаёт» . Не доставало России. Не той, что
оживала миражом со страниц корреспонденции, а настоящей, живой. Второй том, не
вышедший в разлуке с нею, должен был быть окончен вместе с нею, на её земле.
Пора было возвращаться на Родину. И этот путь лежал через Иерусалим. Иерусалим
место очищения и воскрешения. Путь туда искупление, сожигание прежней жизни с
тем, чтобы воскреснуть к новой и, воскреснув, с обновлённой и просветлённой
душой возвратиться в Россию, чтобы завершить, если это угодно Богу, начатый
труд
«Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желанье
искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности,
на вступленье в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом
месте, где некогда проходили стопы Его; поблагодарить за всё, что ни случилось в
моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для
которого я себя воспитывал и к которому приготовлял себя» . Но главное,
Иерусалим обретение самой веры. Не той веры, что проверена и доказана разумом,
не веры умственной, но пылающей негасимо веры души. Обретение такой веры
великое потрясение всего существа человеческого, открывающее дорогу к новой
жизни. В Иерусалиме душа должна обрести слух и услышать, наконец, глас Того, Кто
есть Истина, и тогда все глубины откроются прозревшему взору, и явятся силы
создать то, что неподвластно рациональному разуму, но лишь душе, святым пламенем
возгоревшей. А что если напрасен окажется путь, и душа останется нечувственна?..
Страшно! «Мне кажется, даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа
богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился его
необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному
человеку вместить её в себе, изумился глубокому познанию души человеческой
- но
веры у меня нет. Хочу верить» .
Отчего это святые места, где должна царить торжественная тишина, где душа один
на один может обратиться к Богу, так похожи бывают на вавилонское
столпотворение? Разноплемённая толпа паломников неумолчным ульем гудит со всех
сторон, не позволяя услышать священного безмолвия, в котором душа могла бы
обрести покой и подняться на горнюю высоту, к седьмому небу
И пусто становится
от этого нескончаемого гудения, столь неуместного в таком месте в такой час.
«Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!» Тот
ли это Иерусалим? Вот, она, Голгофа вдали синеватые горы и Иордан
Без малого
2000 лет назад по этим камням ступал Спаситель
От сознания этого какое-то
неописуемое чувство подступает к сердцу, но не успевает достигнуть его, вновь
спугнутое гомоном человеческих голосов. О, если бы вовсе смолкли они, исчезли, и
остаться наедине с этой уже померещившейся высотой! Но отвлекает гомон, и не
сходит с уст молитвенных напевов
«Мои же молитвы даже не в силах были вырваться
из груди моей, не только возлететь, и никогда ещё так ощутительно не виделась
мне моя бесчувственность, чёрствость и деревянность» .
Почти вся жизнь уже лежит долгой, петляющей дорогой позади. Вглядеться в начало
её: родная Васильевка, сад, необычайно высокое, яркое небо, белые хаты, гнёзда
аистов, протяжные украинские песни; Петербург, то сырой и холодный, то
нестерпимо душный, но всегда отчего-то чужой, точно троюродный богатый дядюшка,
у которого живёшь на правах бедного родственника, Невский проспект, университет,
Пушкин, Пушкин, единственный, кто понимал всё, Пушкин, с которым не успел даже
проститься; Рим, великолепный, как высшее творение искусства, примиряющий, как
оно, второй дом, почти ставший родным, но так и не сумевший заменить отчего
Целая жизнь на что ушла она? На служение искусству. Искусство служение Богу.
Потому что искусство примиряет, искусство создаёт, строит, но никогда не
разрушает. Бог Творец. Мир - его великое творение, совершенное во всём.
Искусство, творчество Божие дело, и всякий творец должен иметь перед глазами
примером, в первую очередь, главного Творца, высшего Творца, и в нём черпать
силы и вдохновение. Великая сила и великая ответственность искусство. Не дай
Бог во зло обратить его по злобе или невежеству. «Искусство есть водворенье в
душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства» .
Вся жизнь была принесена на алтарь искусства. Ни для чего больше не осталось её.
Ради него отшельничество было предпочтено семейному уюту. Но возможен ли он был?
Давным-давно обзавелись семьями все друзья. Даже Жуковский под старость лет
женился. А по пути в Иерусалим, в Бейруте Гоголь остановился у старого товарища,
теперь генерального консула в Сирии и Палестине К. Базили и его прелестной жены.
Как уютен был их дом, сколько тепла в нём царило
Боже, как уютны и покойны
бывают семейные вечера! Какой мир и порядок царит в таких домах! Когда добрая и
милая хозяйка заботится о семейном очаге, когда играют беззаботные и резвые
ребятишки, рядом с которыми чувствуешь себя моложе. С детьми так весело возиться
подчас, так успокаивается душа рядом с ними
У всех есть дом, очаг, семейный
уют, а Гоголь, дожив почти до сорока лет, не имел ничего. Что за странный жребий
быть вечным путником, пилигримом на дороге жизни, не имея нигде приюта, места,
где можно преклонить усталую голову, тихой гавани
А ведь мог быть семейный очаг
и у него
Или это вздор? Какой могла бы быть его жена? Женщин рядом было много,
прекрасных, умных, но разве же он пара им? Они из другого мира, они стоят на
других ступенях по своему положению, состоянию
С ними связывают узы сердечной
дружбы, но не более. Гоголь-писатель знаменитость, а Гоголь-человек? Уже
немолодой, истерзанный бесконечными недугами, расстроенный нервами, не имеющий
гроша за душой что дал бы он жене, детям? Все эти годы приходилось унизительно
вымаливать у всех деньги для того, чтобы как-то содержать себя одного, а если бы
ещё семья? Подумать страшно. Нет, нет, есть люди, не созданные для семейного
счастья, люди, предназначение которых в другом, и изменять тому негоже, как бы
ни был тяжек груз бездомности и бесприютности. «Если вы подумали о каком
домашнем очаге, о семейном быте, о женщине, то
вряд ли эта доля для вас! Вы
нищий, и не иметь вам так же угла
как не имел его и тот, которого пришествие
дерзаете вы изобразить кистью! А потому евангелист прав, сказавши, что иные уже
не свяжутся никогда никакими земными узами» . А, может быть, такая
категоричность лишь преувеличение, и стоит подумать?.. «Счастлив путник, который
после длинной, скучной дороги с её холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися
станционными смотрителями, бряканьем колокольчиков, починками, перебранками,
ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит, наконец, знакомую
крушу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут перед ним знакомые комнаты,
радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные
тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить всё печальное
из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!»
Путешествие в Иерусалим ничего не оставило в душе, кроме разочарования и
огорчения собственной бесчувственностью. Ни искупительных, очистительных слёз,
ни воскрешения
Неужели же он из тек, кто не холоден и не горяч, а лишь тёпел?
Страшно! «Уже почти не верится, что я был в Иерусалиме. А между тем я был точно,
я говел и приобщался у самого гроба святого
Я не помню, молился ли я. Мне
кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для
моленья и так располагающем молиться. Литургия неслась, мне казалось, так
быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел
почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа
для приобщенья меня, недостойного
»
Основная часть пути была пройдена. Впереди оставался лишь краткий отрезок
длинною в четыре года. Таяла вдали Святая земля, а где-то за туманным пологом
уже мерещился родной берег, Россия, манящая, зовущая, ожидающая
Россия, также
страдающая от неустройства и вековечной путаницы, от холода и бедности, от
творимого зла, которым закопчён уже светлый лик её, от бесчисленных грехов,
смердящими и гноящимися язвами покрывающими бессмертную душу. Русь!
Птица-тройка, несущаяся неудержимо вперёд, не замечая, что вот-вот отскочит
колесо, и перевернётся бричка, выбросив в грязь зарвавшихся седоков
Русь,
святая Русь, страждущая под путами грехов, Русь, погибающая и кающаяся, Русь,
монастырь наш, где всякому хватит работы во славу Божию
«Она зовёт теперь сынов
своих ещё крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздаётся
крик её душевной болезни» . Русь, также ждущая и верящая в Воскресение!
Воскресения ждёт Русь, и всякая душа христианская ждёт его, и приидет оно! «Не
умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают
в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но
воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них
разлиться по всему миру. Не умрёт из нашей старины старины ни зерно того, что
есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесётся звонкими
струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет
померкнувшее и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует,
прежде у нас, чем у других народов!»
Вместо эпилога
Н.В. Гоголь: наследие и наследники
Истинно,
истинно
глаголю
вам:
аще
пшеничное
зерно,
падши
в
землю,
не
умрёт,
то
останется
одно; а, если умрёт, то принесёт много плода.
Евангелие
Наследниками Н.В. Гоголя называют ряд русских писателей, среди которых М.Е.
Салтыков-Щедрин, М.А. Булгаков, Андрей Белый, Эрдман и др. Но справедливо ли
это? Что понимаем мы под наследием Гоголя, а, значит, и под понятием
«наследники»? Только ли литературное направление, или же нечто большее?
Салтыков-Щедрин считается продолжателем дела Гоголя, как писатель-сатирик. Но
есть глубочайшая разница между этими двумя писателями, и разница эта в их смехе.
В истоках их смеха. В содержании и цели его. Смех Гоголя светел. Это смех,
имеющей основою христианскую любовь к ближнему, желание совершенства духовного.
Гоголевский смех смех над пороками, а не над человеком. При этом зачастую, по
собственному признанию Николая Васильевича, над пороками собственными. Возлюби
ближнего своего первая заповедь христианства. Ближнего, но ни его пороки,
которыми поругаем образ Божий в человеке, которые есть зло и исходят от врага
рода человеческого. Гоголь с юности ставил целью своей борьбу со злом. И, в
последствие, борьба эта стала не со злом социальным, политическим, но с
духовным, внутренним, являющимся первопричиной всех остальных бед. То борьба не
с человеком, братом своим, а с бесом, терзающим его душу во имя спасения оной.
Смех Гоголя рождён любовью, сочувствием к ближнему, скорбью о нём и желанием
помочь ему. Не унижению человека служит он, а обличению порока, не унижению
России, в чём обвинял Гоголя Розанов, но выявлению болезней её для лечения их.
Болезнь любимого существа не повод разлюбить его, равно как любовь к нему не
повод закрывать глаза на болезнь, которая его пожирает, а, стало быть, долг
любви, разоблачать болезнь и прилагать все силы, дабы помочь излечению. Именно
такой любовью дышит всякое слово Гоголя, обращённое к России, написанное о ней.
О своём смехе Николай Васильевич писал: «Нет, смех значительней и глубже, чем
думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным,
болезненным расположением характера; не тот также лёгкий смех, служащий для
праздного развлечения и забавы людей, - но тот смех, который весь излетает из
светлой природы человека, излетает из неё потому, что на дне её заключён вечно
биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что
проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не
испугала бы так человека. (
) Возмущает душу только то, что мрачно, а смех
светел.»
Что же есть смех Щедрина? Кажется, и он обличает пороки, и он остёр и
злободневен. Но иная основа у этого смеха, смеха человека, лишившего себя Бога и
поставившего себя судиёй и мерилом всему. Это смех не над отдельными частями, но
над целым, смех над человеком, над Россией, над её народом, смех жестокий, смех,
рождённый злом. В этом смехе нет любви, но одно лишь презрение к мнимой
ничтожности других при сознании своего мнимого же превосходства. Если Гоголь
сокрушался о грехах ближних, помятуя и ещё более огорчаясь своим, ища
собственного очищения и принимая всякую критику, то Щедрин судит их безжалостным
судом, отделяя себя от них, не имея ни малейшего сочувствия к ним, с высоты
собственной гордыни. Ничего доброго не может увидеть его глаз в России, даже
«Могучая кучка» и, в первую очередь Мусоргский, высмеиваются, как нечто
бездарное и ничтожное. Гоголь писал, что искусство есть примиренье, но к
обратному стремится Щедрин, а оттого смех его разрушителен, это смех без света,
смех, несущий лишь мрак и безнадёжность, тогда как даже в самых горьких
произведениях Гоголя непременно светится лучик надежды и веры в то, что всё ещё
поправимо, что Воскресение настанет. Для Щедрина Воскресения не существует.
Искусство, рождённое ожесточением, опасно, но не менее опасна сама
ожесточённость для того, кто носит её в своём сердце, позволяя злобе владеть им.
Глаза зеркало души. С этой точки зрения портрет Михаила Евграфовича очень
характерен. Весь образ его носит отпечаток того испепеляющего его душу мрака,
который царил внутри её. Никогда не вышло из-под пера его строк, исполненных
любовью к человеку, к своей земле, своему народу. Неслучайно именно Щедрин стал
любимцем русофобствующей части диссидентов 20-го века. В своей книге «Русофобия»
Игорь Шафаревич приводит отрывок из статьи А.Д. Синявского об отъезде из «этой
страны»: «Я только радовался, глядя на пачки коричневых книжек, что вместе со
мной, поджав ушки, уезжает сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
» Можно ли
представить себе на месте Щедрина Гоголя, глубоко верующего человека, писателя,
который призывал любить Россию и сравнивал её с монастырём, в котором долг наш
служить Христу, писателя, которому принадлежат такие строки: «Кому при взгляде
на эти пустынные, доселе незаселённые и бесприютные пространства не чувствуется
тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упрёки ему
самому именно ему самому тот или уже весь исполнил свой долг как следует,
или же он не русский в душе»?
Чаще всего наследником Гоголя называют Булгакова. Таковым он и сам считал себя.
В самом деле, существует некая мистическая связь между судьбами этих двух
великих писателей. Однажды в тяжёлую минуту, работая над инсценировкой «Мёртвых
Душ», Михаил Афанасьевич обратился к Гоголю: «Учитель, учитель, укрой меня своей
гранитной шинелью!» Изначально на могиле Гоголя, завещавшего не ставить над
собой никаких памятников, неприличиствующих христианину, на Даниловом кладбище
стоял простой гранитный камень Голгофа. Как известно, кладбище это было
полностью уничтожено большевиками, мостившими его плитами берега Москвы-реки, а
прах Гоголя перенесён на Новодевичье, где на новой могиле установили-таки
памятник «От Советского правительства Гоголю». Так случилось, что в тот день,
когда происходила замена надгробия, вдова Булгакова посещала могилу недавно
умершего мужа. Надгробия на ней ещё не было установлено, и Елена Сергеевна
выкупила гоголевскую «Голгофу», которая и теперь лежит на могиле Булгакова.
Учитель укрыл ученика своей гранитной шинелью
Немало общего у Гоголя и Булгакова в литературном плане. То же тяготение к
мистике и фантастичности, тот же юмор, отнюдь не щедринский с его желчностью и
злостью, оба создали исторические эпические полотна («Тарас Бульба» и «Белая
Гвардия»), оба питали страсть к театру, и оба оставили после себя произведения,
над загадкой которых исследователи бьются до сих пор: поэма «Мёртвые Души»,
замысел которой из-за незавершённости остался не узнан вполне, и роман «Мастер и
Маргарита», по сути, тоже поэма, загадочная всею сутью своей. Совпадений очень
много, и вряд ли это можно считать просто совпадениями. В литературном плане
Булгаков является истинным продолжателем традиций Гоголя. А что же в плане
духовном? В конце жизни Гоголь пришёл к глубочайшей вере, в 3-м томе его поэмы
должна была предстать воскресшая Русь, Святая Русь, Христова Русь. Весь путь
Гоголя это восхождение к Богу. Булгаков, некогда заявивший о своём отречении
от веры, атеистом, по сути, не был никогда, но не был и человеком православным.
Если Гоголь перед смертью мечтал писать о Святой Руси, о Христе, то Булгаков
пишет роман о дьяволе. Некоторые склонны считать «Мастера и Маргариту»
антихристианским произведением, но с этим вряд ли можно согласиться. Эту точку
зрения убедительно опровергают многие исследователи. И всё-таки вопрос о
духовном мире Булгакова остаётся открытым. Его наследование Гоголю на стезе
литературной бесспорно, но в духовном плане сомнительно.
Однако есть у Николая Васильевича и прямой последователь по духовной линии. Тот
самый, о котором по прочтении его первой повести Некрасов возвестил Белинскому:
«Новый Гоголь появился!» Ф.М. Достоевский.
Гоголь оказал очень сильное влияние уже на творчество молодого Достоевского.
«Бедные люди» были продолжением гоголевской темы «маленького человека». Влияние
это наблюдается и в дальнейшем. В повести «Двойник» и других юношеских
произведениях Фёдора Михайловича проявляется фантастичность, свойственная многим
творениям Гоголя. Ряд произведений Достоевского, написанных уже после каторги,
отсылают нас уже к гоголевскому гротеску («Дядюшкин сон», «Фома Опискин»
)
Любопытно, что в «Опискине» гротеск распространяется уже на самого Гоголя. Как
некогда он сам слегка подтрунивал над своим учителем Пушкиным, так теперь его
самого вышучивал Достоевский.
Но наиболее сильное уже непосредственно духовное влияние Гоголя видим мы в
поздних произведениях Достоевского, которые, в отличие от ранних, по своему
литературному почерку как раз сделались уже далеки от гоголевских. Именно в них
раскрываются темы, намеченные в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и 2-м
томе «Мёртвых Душ». Гоголь успел лишь провести пунктирную линию, бросить семя, и
уже это семя дало обильный плод творчестве Достоевского. Если говорить о
«Переписке», то Гоголь впервые выступил в ней, как писатель-публицист, став
первооткрывателем этого направления, и именно эту традицию продолжил и закрепил
Достоевский в своём «Дневнике». Вопросы веры, вопросы судьбы России и её народа,
нарастания раскола в русском обществе и его возможные последствия, духовные и
общественные язвы нашей жизни, грех, покаяние, искупление и воскресение вот,
темы позднего Гоголя, костяк который гений Достоевского облёк во плоть. «И
непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь:
всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ
скуки, достигая с каждым днём неизмеримейшего роста. Всё глухо, могила повсюду.
Боже! пусто и страшно становится в Твоём мире!» Не об этом ли все главные
произведения Достоевского? Но едина вера двух писателей в Россию, в русский
народ. «
если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни
для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг разом
все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью
собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев
имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванётся у нас всё сбрасывать с
себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие
минуты всякие ссоры, ненависти, вражды всё бывает позабыто, брат повиснет на
груди у брата, и вся Россия один человек. Вот на чём основываясь, можно
сказать, что праздник Воскресения Христова воспраднуется прежде у нас, чем у
других». «И пусть русский народ груб, и безобразен, и грешен, и неграмотен, но
приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та
степень свободы духа, которую проявит он перед гнётом материализма страстей,
денежной и имущественной похоти и даже перед страхом жесточайшей мучительной
смерти», - вторит Достоевский.
А ещё стоит внимательно вчитаться во 2-й том «Мёртвых Душ». Здесь уже не
привычный гротесковый Гоголь, здесь уже не смех, но глубокие вопросы и прозрения
выступают на передний план. Одно из них «огорчённые люди». Достоевский, бывший
петрашевец, сам был из таких огорчённых людей и вывел целую галерею их в своих
романах: от Раскольникова до Ставрогина, от Ивана Карамазова до Крафта
Путаница, вечная всероссийская путаница виной нашим бедам, считал Гоголь.
Неслыханная путаница водворяется в городе усилиями «мага»-юристконсульта:
«Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться
такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все
пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья у
кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и все так
замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим
образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба
казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к
генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и
расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с
ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время
озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части
губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так
распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники.
Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает
покоя, скупая какие мертвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить
антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против
помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи,
что наступает такое время, что мужики должны помещики и нарядиться во фраки, а
помещики нарядятся в армяки и будут мужики,- и целая волость, не размысля того,
что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась
платить всякую подать».; Сравним этот эпизод с отрывком из «Бесов»: «В смутное
время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. (
) Во
всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе,
и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь
выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь,
сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки
"передовых", которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот
сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что
впрочем тоже случается. (
) Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя:
как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к
чему был у нас переход - я не знаю, да и никто, я думаю, не знает - разве вот
некоторые посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг
перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели
раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали
вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать.
Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки
Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие
путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и
таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над
бессмысленностию своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою
шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты;
развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины,
изображающие собою женский вопрос, - все это вдруг у нас взяло полный верх и над
кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных
ногах, над строжайшим и неприступнейшим нашим дамскими обществом
» Гоголевский
юристконсульт есть предтеча бесов Достоевского. «Подберутся обстоятельства,
подберутся. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела
выигрыш многим: и чиновников нужно больше и жалованья им больше. Словом, втянуть
в дело побольше лиц. Нет большой нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же
оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно откупиться. Вот уж и
хлеб. Первое дело спутать. Так можно спутать, так всё перепутать, что никто
ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои
пойдут похуже, да я всех впутаю в свое, и губернатора, и виц-губернатора, и
полицеймейстера, и казначея, всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто
на кого сердится, и кто на кого дуется, я кто кого хочет упечь. Там, пожалуй,
пусть их выпутываются. Да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь
только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать», - говорит
он Чичикову, и как тут не вспомнить Петрушу Верховенского: «Слушайте, мы сначала
пустим смуту. Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы
уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают
классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего
не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех
сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш.
Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и,
чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб
испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь,
наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш.
Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают!
(
) Мы провозгласим разрушение
(
) Мы пустим пожары
Мы пустим легенды
Тут
каждая шелудивая «кучка» пригодится. (
) Ну-с, и начнётся смута. Раскачка такая
пойдёт, какой ещё мир не видал
» Роман «Бесы» - пророчество о русской смуте. Эту
смуту Гоголь почувствовал ещё на самом горизонте, и сквозь туман контуры её уже
проступают в «Мёртвых Душах». Гоголь видел зло в расколе русского общества,
опасался революции «огорчённых людей», но не верил её возможности, которую
суждено было совсем близко увидеть и детально предсказать Достоевскому. Путаница
и смута в этих двух словах, названных великими пророками, источник всех
несчастий России, причём последняя всегда является результатом первой.
Всю жизнь создавая гротесковые образы, Гоголь мечтал в 3-м томе своей поэмы
описать лучших людей, людей положительно прекрасных. И эту идею возьмётся
воплощать Фёдор Михайлович в романе «Идиот», романе о «положительно прекрасном
человеке». Идея создания такого образа довлела над обоими писателями. Отчасти
Гоголь пытался воплотить её в образах Муразова и Князя, но ему не достало той
необходимой психологической глубины и остроты, которая бала у Достоевского, и
оттого эти персонажи вышли несколько искусственными, чего нельзя сказать о
помещике Костанжогло, типе настоящего хозяина, добившегося процветания своей
земли и крестьян. К слову именно этому персонажу принадлежит знаменательная
фраза: «Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!» В 20-м
столетии А.И. Солженицын напишет: «Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем
владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через нас!» Если Гоголь в
конце жизни грезил описать Воскресение Руси, Христову Русь, то Достоевский
мечтал создать роман о Христе. Оба замысла остались неосуществлёнными.
В духовном плане родство двух писателей огромно, но велико различие фундамента,
на котором они строили свои произведения. У Гоголя это смех, умение угадать и
выпукло выставить характерные черты человеческой натуры, несколькими словами
обрисовать всего человека. Достоевский мастер психологического портрета, его
фундамент не характерность, не смех, а страсть. В первую очередь, страсть между
мужчиной и женщиной. У Гоголя этот конфликт отсутствует вовсе. Женские образы
редко встречаются у него («
но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить
»), и
все они явно слабее мужских. Любопытно, что в первом произведении Гоголя «Ганц
Кюхельгартен» герой сбегает накануне свадьбы, так же поступает и Подколесин в
«Женитьбе», боится женитьба Шпонька, мечтает о семействе, но так и не
обзаводится им Чичиков. Гоголь жил отшельником, его женой была его муза, которой
одной он служил. Совсем иное дело Достоевский, в жизни которого женщины занимали
ключевое место. Полны драматизма его отношения с первой женой. Перед самым
венчанием Фёдор Михайлович боялся, что она сбежит из-под венца с другим, либо же
этот другой зарежет её. Именно с неё будет списан образ Настасьи Филипповны, и с
неё же, в последние годы её жизни, когда она была уже больна чахоткой и
полубезумна несчастная Катерина Ивановна. Вторая возлюбленная Достоевского, А.
Суслова станет прототипом героини «Игрока». Достоевскому, может быть, как никому
из русских писателей удавались женские образы. В каком-то смысле его, как и его
героя Версилова, можно было бы назвать «бабьим пророком»
Такая разница во
взаимоотношениях с женским полом, впрочем, не мешала обоим писателям иметь
именно в среде женщин наиболее преданных друзей, дружба с которыми отличалась
взаимным доверием, и благодарную аудиторию.
Достоевский развил многие идеи Гоголя. Сегодня на Западе Фёдор Михайлович
признан главным знатоком русской души, а Николай Васильевич известен значительно
меньше. Достоевский блестяще раскрыл все темы, волновавшие позднего Гоголя, до
которых так и не суждено было добраться ему самому. Но без Гоголя, вероятно, не
было бы того Достоевского, которого мы знаем. Так же как без Пушкина не было бы
самого Гоголя. Достоевский назвал Пушкина нашим пророчеством и указанием, и в
такой же мере слова эти относятся к Гоголю, и к самому Фёдору Михайловичу, и к
другим русским писателям, следующим проложенным ими путём. Никто так глубоко не
проник в душу русского человека, как Достоевский, никто до него не ставил с
такой силой проклятых русских вопросов, но предтечей его на этом пути был
Николай Васильевич Гоголь, и это сам Фёдор Михайлович свидетельствовал об этом,
говоря: «Мы все вышли из гоголевской шинели»
Н.В. ГОГОЛЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
ОБЛИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И НЕКОТОРЫХ ИЗ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ ПОВЕСТЯМ Н.В. ГОГОЛЯ: НОС, ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО, ШИНЕЛЬ, И НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ.
У Н.В. Гоголя приехавшего в Петербург с юга России, полного солнечного света, возникло о столице устрашающее представление. Его взору представилась построенная по мановению руки императора Петра Великого 14-ступенчатая иерархическая административная пирамида, края которой распространялись на всю территорию Российской Империи. Верхние слои этой пирамиды казались ему как построение Новой Вавилонской Башни. Город ужасающе подействовал на Гоголя привыкшего к маленьким городам и местечкам, что отразилось в его произведениях.
Когда Гоголь писал свои Петербургские повести, то интерес его к жизни и атмосфере большого города продолжал расти, и в русской печати и литературе были описания на эту тему. В своих повестях Гоголь соединил некоторые из влияний.[1]
« Печать Петербурга видна на большей части его произведений, - писал Белинский, - не в том, конечно, смысле, чтоб он Петербургу обязан был своею манерою писать, но в том смысле, что он Петербургу обязан многими типами созданных им характеров. Такие пьесы, как «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Нос», «Шинель», «Женитьба», «Утро делового человека», «Разъезд», могли быть написаны не только человеком с огромным талантом и гениальным взглядом на вещи, но и человеком, который при этом знает Петербург не понаслышке »[2]
Между 1820 и 1830 годами мода на описания городов, как литературный мотив распространилась в России, как в поэзии, так и в прозе. Создались жанры, связанные с атмосферой города: оды о Петербурге и о Москве, сатирические описания общества; по французским и английским моделям; ночные эффекты большого города, взятые из романтицизма; и описания поведения людей, как у французского писателя Jouy, который описал ежедневную жизнь большого города и разные типы людей, которые в нем находились.[3]
В разбираемых здесь 4-х Петербургских повестях Гоголя Невский проспект, Нос, Записки сумасшедшего и Шинель представлен нашему взору художественная картина Петербурга и ряда его жителей, каковыми они представились глазам Гоголя.
Перечислим главные образы в этих повестях:
Н. проспект: Поручик Пирогов, художник Пискарев, образ проститутки, немцы ремесленники, супруга Шиллера.
Нос: Майор Ковалев, Нос, квартальный надзиратель, цирюльник Иван Яковлевич и его супруга, штаб-офицерша Подточина.
Зап. сум.: Чиновники в департаменте, директор департамента, Поприщин, собаки Меджи и Фидель, Софи (дочь директора департамента).
Шинель: Акакий Акакиевич Башмачкин, «значительное лицо», портной Петрович, чиновники департамента.
Кроме перечисленных выше главных образов показанных на фоне толпы, в этих произведениях Гоголя есть еще один образ это образ диавола беса искусителя, врага рода человеческого.[4] Образы, данные Гоголем в его повестях, выделены из петербургской толпы, как самые обыкновенные рядовые в ней не отличающиеся от других типы, каковых можно много там встретить.
«Вы знакомы с майором Ковалевым? Отчего он так заинтересовал вас, отчего так смешит он вас несбыточным происшествием со своим злополучным носом? оттого, что он есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы, так что, после знакомства с ним, хотя бы вы зараз встретили целую сотню Ковалевых, - тотчас узнаете их, отличите среди тысячей» писал Белинский о Ковалеве. Белинский утверждал, что Ковалев это мастерски нарисованный Гоголем коллективный портрет чиновничества.[5]
И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! Не хочу говорить о тех, которых и так уже много говорил, скажу только об одном таком его словечке, это - Пирогов! Святители! Да это целая каста, целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст... Это символ... который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек..."[6]
Таково-же мнение и об остальных образах показанных Гоголем русских критиков. Акакий Акакиевич это образ целого класса чиновников в столице
Гоголя привлекали и очаровывали в столице многочисленные вывески лавок, то, что прохожие разговаривали, сами с собой жестикулируя. Эти его впечатления выразились в его произведениях. Но как пишет
Сирин-Набоков о Гоголе в Петербурге: один только Гоголь ходил по Петербургу разговаривая сам с собой, а количество вывесок он увеличил, чтобы поразить впечатление провинциала.[7] Подобное
впечатление о Гоголе создалось также у Проспер Мериме, который писал о Гоголе:
«Он не видит прекрасное ни в вещах, ни в людях и не потому, что он плохой наблюдатель, но потому, что он предпочитает уродливые и печальные явления. Несомненно, что и то и другое часто встречается в природе и в жизни, именно вследствие этого не следовало бы устремляться в поисках за ним с таким ненасытным любопытством. Если судить о России, святой Руси, как ее называют, по картинам, нарисованным Гоголем, то создается ужасное впечатление. Он показывает нам либо дураков, либо предлагает любоваться негодяями, заслуживающими лишь петлю..."[8]
Однако подобные мнения критиков о Гоголе во многом ошибочны т.к. они не приняли к сведению того, что Гоголь работал на контрастах. В его целях было ужаснуть читателя перед картинами, созданными в большом городе и с другой стороны показать жизнь в селе. Работа на контрастах у Гоголя продолжалась всю его жизнь и, работая над поэмой Мертвые Души, он предполагал показать гармонию. Другое дело, что писатель со своей задачей не справился, но это не означает, что он был бесчувственен и не видел окружающей красоты в людях и природе. Для доказательства этого мнения достаточно привести поэтически описанные картины Гоголя в Риме и в отрывке из Страшная месть о Днепре. Гоголь чувствовал себя пророком и подобно поступал, пророки же всегда осуждали пороки людские и звали человечество к лучшему. Подобно поступал и Гоголь и не его вина в том, что его не смогли понять и достаточно оценить. Вторая ошибка в том, что совершенно не понималась критиками вышедшего из церковных кругов России, термина Святой Руси создавая в их представлении картину идеального государства населенного святыми.
Начиная повесть о Невском проспекте, Гоголь строил красивую иллюзию о городе, которую под конец повести он разрушает, представляя ужасы. Однако в своем описании он умело смешивает трагическое с комическим.[9] Представленные Гоголем чиновники были не только в одном Петербурге, они были с их специфическими свойствами везде и они остались с ними до сего дня. Описывая их, Гоголь хотел показать их на фоне центра, каковым был Петербург. В его описании чиновники жили, мечтая о карьере, получении хорошей должности, получив которую, они не осознавали своих обязанностей. Своего значения, репутации среди младших сослуживцев они старались добиться странными методами:
«Завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность, чтобы к нему являться прямо, никто не смел, а чтобы шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него».[10]
Разговаривая с чиновниками: -
«Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «как вы смеете?»,«знаете ли вы, с кем говорите?»,«понимаете ли, кто стоит перед вами?» [11]
Как это подметил Гоголь некоторые чиновники, дабы придать себе больше веса не называли себя гражданскими чинами, а подобно коллежскому асессору Ковалеву называли себя военными и поразительно то, что из тщеславия делали это даже перед людьми, не разбиравшимися в чинах, как-то это делал Ковалев перед торговками или смазливыми девчонками и др. Для этих чиновников главную роль играло: «у нас, прежде всего нужно объявить чин» (Шинель). В голове у чиновников были, однако не одни помыслы о служебной карьере были и житейские планы:
« был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу». (Нос)
Описанные Гоголем чиновники департаментов, занимались десятилетиями подобно Башмачкину (Шинель) переписыванием бумаг, были не в состоянии взяться за более серьезную работу, сидели и очинивали перья начальству Поприщин (Записки сумасшедшего), любили ездить в кондитерскую где, желая показать себя, громко делали приказание: «Мальчик чашку шоколаду» (Нос). Высшего общества Петербурга Гоголь не описывал, он его не знал и изобразил в своих повестях низших и средних по табели рангов чиновников, которые однако мечтали завести связи с высшим светом, Гоголь изобразил военных и наполняющий собой Невский проспект народ.
На Невском проспекте, мы видим светское общество, появляющееся только после обеда и под вечер на «улице-красавице нашей столицы», к этому обществу в своих повествованиях Гоголь не возвращается за исключением двух случаев, когда художнику Пискареву снится сон, в котором он видит на балу свою красавицу, а второй случай это когда «одно значительное лицо» (Шинель) встречается после смерти чиновника Башмачкина с другими статскими советниками и генералами. Начиная описывать Невский проспект, Гоголь отмечает его значение:
«Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургский или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках, или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект».[12]
Не один Гоголь высказывал подобное мнение о Невском проспекте.
«Без народных гуляний, сиделец, мастеровой, работник или служитель, живущий под Невским или на Литейной, в несколько лет не свиделся бы со своими приятелями, жителями Коломны и Петербургской стороны» писал Булгарин.[13]
И подражая другим, в экстазе Гоголь восклицает:
«Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои!»[14]
«Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, - повествует далее Гоголь, - все исполнено приличия; мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледноголубых атласных рединготах и шляпках».[15]
В то время как чиновники, прогулившиеся по проспекту ставили выше всего в человеке его внешний вид, а к внешнему виду относилось также и обладание усов и бакенбард,[16] то они о них усердно заботились и тратили на уход за ними добрую часть своей жизни. У майора Ковалева были отличнейшие бакенбарды, сходившиеся к носу. Ввиду этого он считал что нос, важнейшая часть тела, видная всем и вследствие этого своего свойства носа он беспокоился, чтобы он выглядел у него безукоризненно без прыщиков. Нос для него не был органом обаяния и дыхания, а органом на виде, которого он рассчитывал строить свою карьеру.[17] С самодовольством он замечает, что у других людей носы не такие красивые, по его мнению, и изящные как у него. Он думает о своем носе, как только просыпается, беспокоится о нем, когда бывает у парикмахера, как и Пирогов он, любит «задирать нос» и оба они любили, задрав его гулять по проспекту на котором:
« вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни предмет долгих бдений во время дня и ночи».[18]
Если рассматривать мир с точки зрения сатирической (а не с точки зрения Фрейда), то нет ничего удивительного в том, что если на Невском проспекте можно было встретить бакенбарды или усы, то с таким же успехом там мог бы оказаться и нос[19] и вследствие этого вряд ли Гоголь описывал приписываемые ему Фрейдом пассажи. Цель писателя была гораздо выше, он описывал влияние на души жителей Петербурга, влияние страшных демонических сил на судьбу человека. Смысл повести Нос, заключается не в бегстве носа, а в переживаниях Ковалева по поводу исчезновения носа.[20]
Гоголь со страхом видел другой Петербург, он для него заключался не в Невском проспекте, не в гавани и ни в трущобах Васильевского острова. Он с ужасом видел, что блестящая в нем жизнь обманчива, является только декорацией, влияет вредно на души его жителей. В Невском проспекте Гоголь видел больше всего обмана, где скрывались гнусность, он видел, что дело было не в том, что там шикарные витрины, фонари вдоль проспекта, наполненного роскошно одетыми людьми.
Гоголь не дал в своих повестях архитектурного описания Петербурга и его улиц или Невского проспекта, как он это сделал в своей повести, произведший на него громадное впечатление Рим города лишенного класса бюрократов-чиновников, повесть Рим, которая была включена в сборник вместе с Петербургскими повестями. Не следует думать что, принимаясь за описание Рима Гоголь, не знал его истории и причин упадка римской империи.[21]
Гоголь все эти обстоятельства знал, но Рим ему нравился своей историчностью, музеями и картинными галереями, художественностью видов и архитектурой и самое главное это политической тишиной. Изображение сделанное Гоголем Петербурга кажется совершенно неестественным, кажется, что он увидел город сквозь осколок того зеркала, о котором писал Г. Андерсен в Снежной королеве. Люди, о которых пишет Гоголь, какие-то безличные куклы и кажется, они управляются чьей-то волей. Этот характер театра усиливается, когда ночью придается свет уличных ламп. Все перед глазами героев искажается, предстает в нереальном неправдоподобном виде, все оказывается обманом и мечтанием, даже, казалось бы, божество идеал красоты в глазах художника превращается в пошлую проститутку, ленивую и отвратительную в своем падении. Гоголь видит город духовными глазами, что дано очень немногим людям, и он видел, что над всем городом оказывается какая-то демоническая сила в превращениях, его повести оканчиваются трагедией описываемых людей, показывая этим самым, что вся среда заражена, все обречено быть поглощенным злым духом. В ужасе Гоголь предупреждает читателей:
« О не верьте этому Невскому проспекту: Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртуке, очень богат, - ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре ее, - совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой».[22]
В своем описании Петербурга Гоголь создает картину как некой коллективной личности, но не вовсе не безлично повторенной в каждом петербуржце, как индивидуализированная идея нации у романтиков повторялась в каждом представителе этой нации. Наоборот, личность Петербурга образовано сплетением различных по своему характеру людей в его повестях, которые все же создают все вместе единую коллективную личность.[23]
В своем описании Петербурга Гоголь старается создать особую атмосферу:
«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массой наляжет на него, когда весь город превратится в гром и блеск, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».[24]
На изображенной Гоголем картине мы видим «гром и блеск» и в это же самое время он говорит об «обмане». Гоголь не делает в повести политических намеков, и он не думал, к каким выводам могли привести его повести о Петербурге.[25] Гоголь стремился изобразить город, изобразить его, так как никто этого не делал до него, сделать это так чтобы общество ужаснулось воспроизведенными им картинами. В то время изображали в страшном виде жизнь низшего слоя жителей Петербурга Даль В.И. Петербургский дворник, Панаев И.И. Галерная гавань и Григорович Д.В. Петербургские шарманщики, а также ряд других писателей, но в их изображении зло исходило от несправедливости, от неудачливости, бедности и непрактичности жителей. У Гоголя же мы видим ужасные демонические силы, создаются картины, напоминающие апокалиптические сцены. Эти исчадия зла захватили в свои руки город и люди являются как бы игрушкой в их руках. Свое изображение Петербурга в повестях Гоголь нарисовал с большой художественностью, у него изумительно красивые картины, до смысла которых читатель додумывается. Гоголь изобразил смешно ужасное с таким мастерством, что одновременно ужасаешься сквозь слезы смеха.
«На Невском собачонки говорят человеческим языком. Ветер «дул со всех четырех сторон», «вмиг надуло ему в горло жабу», в духе гоголевской гиперболы превратить болезнь в настоящую жабу и представить ее прыгающей в горло».[26]
Гоголь, говоря о том, что нельзя доверять декорациям Петербурга, переходит на женщин и восклицает: «Но дамам меньше всего верьте».[27]
«В своей одежде, шляпках, пестрых платках они ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы, как ни будь от неосторожного даже дыхания вашего, не преломилось прелестнейшее произведение природы и искусства ».[28]
Но вышепоказанные картины показывают, как выглядит прилично и красиво Петербург и в нем Невский проспект днем при дневном свете, а когда ночью зажигаются фонари, диавол окутывает город туманом, все становится неясным. При обманчивом свете фонарей Невского проспекта Пирогов принимает хорошенькую немку мещанку за проститутку и преследует ее. Пирогов самодовольный и самонадеянный, думавший, что нет красоты, способной ему противиться. Он не останавливается в своем преследовании даже замужней женщины, продолжая ее преследовать, не считаясь с ее положением. Немцы ремесленники высекли его. Его негодование этим неприятным для него происшествием находит себе единственным выходом жалобу по начальству. Но стоило ему зайти в кондитерскую и съесть пироженное, после этого потанцевать на вечеринке и он уже забыл все принятое оскорбление и снова готов к похождениям на Невском проспекте. В рассказе открыто все его ничтожество натуры, эгоистичной и лишенной самолюбия.[29] Как и Пирогов художник, Пискарев был, обманут лживым светом фонарей Невского проспекта. Но в их ошибках большая разница в том, что Пирогов решил, что мещанка проститутка, а Пискарев принял проститутку за воплощение идеала, неземной красоты девицу и с этим как следствие символ ее добродетели. Каждый из них увидел то, к чему стремился и, увлекшись, они последовали за предметами своей страсти. Увлечение Пирогова кончилось столкновением с немцами-ремесленниками, а самообман Пискарева имел для него более серьезный исход. Пискарев побывал в трущобах Петербурга и, осознав все ужасы человеческого существования, с продажей красоты и чести сходит от этого познания действительности с ума и кончает жизнь самоубийством. Победителями в жизни остаются самодовольные и пошлые Пироговы.[30]
Указанные выше дамы, одна глупая немка-мещанка, совсем не понимавшая чего собственно от нее хотел Пирогов, она не привыкла думать т.к. за нее все решения принимал ее расчетливый муж. Другая еще недавно попавшая:
«в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом».[31]
Такой увидел ее Пискарев, оторопевший от неожиданности перевоплощения, стремившийся узнать ту святыню, где опустилось это божество гостить.[32] Пискарев убегает от нее, но она продолжает являться в его снах в виде примера чистоты и благородства. Пискарев от этого в восторге и счастлив когда спит. Но сон его начал понемногу оставлять. Гоголь рисует картины бредовых видений Пискарева схожие с описанием бредов людей употребляющих опиум.[33]
« в Невском проспекте есть намеки на участие демонов в победе над красотой, в превращении божества в проститутку. О незнакомке, пленившей Пискарева, сказано: «она бы составила божество в многолюдном зале при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников. Но она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту адскую пучину». Фраза (Гоголя) об адском духе и его борьбе с прекрасным могла бы быть стилистической случайностью, если бы не было заключительных строк повести: «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» Этот образ бросает свет на замысел всей повести».[34]
Немцы ремесленники представленные в Невском проспекте искусстные мастера, гордые тем, что они немцы, что где-то у них там дома есть король. Раз в неделю они встречаются и пьют пиво. Они очень во всем расчетливы, мечтают разбогатеть. Напившись, Шиллер просит своего друга отрезать ему нос т.к. он нюхает табак и это ему дорого обходится и он хочет избавиться от лишних расходов. В данном Гоголем описании Шиллера весь человек, вся его история жизни.[35] Он хотел избавиться от носа, у майора Ковалева нос сбегает. Но сатира Гоголя состоит не в бегстве носа от майора, а в переживаниях, которым подвергся, лишившись носа Ковалев. Он пришел в отчаяние[36] и боится встретить знакомых. Он видит конец своей карьере, невозможность составить себе хорошую партию в женитьбе:
«Боже мой! Боже мой! думает он. За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги все бы это лучше; будь я без ушей скверно, однако же, все сносное, но без носа человек черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин».[37]
Физически Ковалев не страдал, он потерял нос, который для него представлялся только украшением его наружности.[38] Расставшись с майором его нос символ гордости, самолюбия Ковалева, повел себя понятно, как этого и можно было бы ожидать от выскочки: оделся «в мундир, шитый золотом, с большим стоячим воротником, в замшевых панталонах, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника».[39] Нос стал как бы отдельной от Ковалева личностью и можно только в очки увидеть, что это нос, а не статский советник. Действия носа в повести описаны как действия человека это гротеск. Нос выпрыгивает из кареты, бежит, ходит, разговаривает, смотрит, кричит кучеру «подавай!» и умеет вести себя как важное лицо.[40] Страдания майора Ковалева кончаются, когда он просыпается утром. Он находит даже что на его носу, оказавшемся на своем месте, нет прыщика. Весь кошмар, которому он подвергся, было как-бы тяжелым для него сном. В искренность подобного происшествия могла поверить только жадная к сплетням толпа, верящая слухам о ездящем в карете носе, в мундире с чином статского советника, в появляющегося по ночам призрака мелкого чиновника и снимающего у прохожих шинели. Эта толпа сатирически представлена в повести самодовольной и бессмысленной.
Полицейские чиновники представлены в повестях как взяточники и хамы.
«Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей; но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», обыкновенно говорил он: «уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится».[41]
Надзиратель также как и частный любил деньги, бил по зубам проштрафившихся мужиков.[42] В разговоре он любил тавтологию: «моя теща, то есть мать жены моей » пояснял он в разговоре Ковалеву.
Цирюльник Иван Яковлевич пьяница, страшный трус, его супруга крикливая баба им управляющая. Доводов каких-либо с его стороны она не желает слушать. Штаб офицерша Подточина не прочь выдать свою дочь замуж. Майор Ковалев для ее дочери подходящая партия и она хотела бы от него получить формальное предложение.
В Записках сумасшедшего Гоголь развивает сущность бюрократического мира. Отношение директора департамента, его дочери, служащих коллег и даже собаки директорской дочери. Все они так же как Ковалев поднимают носы и не замечают Поприщина. Он в их глазах предмет, а сами они всецело, как и майор, Ковалев заняты своей карьерой. Сам директор мечтает об ордене, в котором он видит как бы недостающее звено для своего счастья. Показанные в повести собаки Меджи и Фидель, гораздо умнее людей и видят недостатки своих хозяев, за что и критикуют их. Они даже обладают гастрономическими чувствами.
В характере Поприщина не только забитость, он мучается своим положением, думает, что ему полагается иное в обществе положение. Он отстаивает свою человеческую личность, и достоинство, но делает это очень неумело, неуклюже. Его протест проявляется внутри, в подполье, он пишет дневник, в котором не только высказывает свои мысли, но доходит в своем протесте до крайности, переходя за границы реального. Здесь Гоголь применив гиперболу и доведя до фантастики, до гротеска обстоятельства жизни Поприщина создал некоторые сюжетные подробности. У забитого бедного чиновника появляется мания величия, что явилось следствием чрезмерного гнета его души. Он не смог стать машиной и кончил сумасшествием.
«Еще более трагичной была судьба забитого петербургского чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина, на которого «нестерпимо обрушилось» несчастье. «Какие-то люди с усами», отняли у него новую шинель единственную радость в его печальной, одинокой жизни. В поисках справедливости Акакий Акакиевич решился пойти к «значительному лицу» и поведать ему о своем горе».[43]
Посещение «значительного лица» окончилось для бедного чиновника плохо. С «аудиенции» он возвращался с открытым ртом, в который по петербургскому обыкновению дул со всех четырех сторон ветер.
Акакий Акакиевич изъяснялся больше местоимениями и частицами «этаково-то дело этакое я право и не думал, чтобы оно вышло того так вот как! наконец вот что вышло, а я право совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак » Любимое в разговоре у него словцо «того». Когда он появился мертвецом и схватил «значительное лицо» за воротник то произнес: «А! Так вот ты наконец! Наконец, я тебя того » К «значительному лицу» в повести Шинель Гоголь оказывается снисходительно,[44] но в конце повести мы видим все же, что Акакий Акакиевич именно к нему имел претензию, а не к грабителям: именно он, а не грабители, является в повести убийцей Акакия Акакиевича; это подчеркнуто тем, что именно с него срывает шинель мертвец Акакий Акакиевич, после чего тень Акакия Акакиевича успокаивается; на него направлено это своеобразное и слабое возмездие. Гоголь не оставляет места сомнению в данном отношении.[45]
Петрович портной в повести Шинель, представлен пьяницей, но он художник своего дела, любит свое дело и любуется работой. Акакий Акакиевич также любит работу переписчика, бывает для удовольствия, берет работу на дом, любит сидя дома для развлечения выводить буквы и это занятие доставляет ему удовольствие.
Гордость Акакия Акакиевича его шинель украдена страшными людьми с усами и он умирает.
«И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому не дорогое даже не обратившее на себя внимание существо без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу для которого перед концом жизни, мелькнул гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастье».[46]
Гоголь умело показал ум и энергию, проявленную Акакием Акакиевичем, сначала у портного при попытке починить старую шинель, а потом его старания при сбережениях на новую шинель.
Несмотря на то, что показанные Гоголем чиновники низших ступеней, забитые и обезличенные они имеют свою собственную жизнь и свои планы. У них проявляется слабое естественное желание сопротивляться и отстаивать свою личность. На деле сопротивляться они не в состоянии и весь их протест происходит в их мыслях, в записях их дневников, в их оскорбленной душе. Поприщин, вообразил себя испанским королем, вознаградив себя таким способом за перенесенные обиды, в своем безумии преувеличив реальность. Гоголь вывел яркие контрасты общества, предоставив читателю жалеть мелких чиновников и изобразив служащих среднего класса в их самодовольствии и легкомыслии. На жизнь как одних, так и других разлагающе действует бюрократический город. Под влиянием этого города люди забыли свое истинное призвание в жизни, и Гоголь умело показывает всю мелочность их занятий и ненужность их пребывания там.
Гоголь выдвигает на первый план внешние предметы, как символ пошлости, делает специфические ему сравнения людей с насекомыми или овощами. «Такая групповая характеристика лиц создает какое-то впечатление плотной, густой, серой и однородной массы, в которой гибнет неминуемо всякое проявление свободной личности».[47]
На протяжении повестей герои не обнаруживают развития характеров, несмотря на то, что при их нравственных страданиях они внутренне подвижны и изменчивы. Нравственно гоголевские герои развиваются на основе интриги повестей Башмачкин в бреде произносит слова с присовокуплением «ваше высокопревосходительство», от которых его хозяйка затыкает себе уши. Поприщин в своем протесте подписывается испанским королем, режет свой вицмундир и т.д.
В Петербургских повестях Гоголь отмечал, что все неправдоподобно у него встречаются слова «странный», «несбыточный», «неправдоподобный», «несообразный» и др.[48] которые еще более усиливают создавшееся у читателя впечатление неправдоподобия. «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие » так начинается повесть Нос, тема странности развивается во всей повести и оканчивается она: «теперь только видим, что много неправдоподобного, но что страннее, что непонятнее всего ну, да и где же не бывает несообразностей?» Под этими представленными Гоголем картинами неправдоподобия в его повестях, однако, проступает горькая правда и призыв посмотреть на свою жизнь, исправить свои ошибки, представленный им образ мир и дисгармонии в хаосе который внесен темными силами ада «точно какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски, без смысла, без толку, смешал вместе». (Невский проспект)
В Петербургских повестях читатель видит еще не сложившийся характер обличения Гоголя как пророка. В них он еще мягко и робко указывает читателям на опасность. Впоследствии, когда Гоголь почувствовал свою силу и обязанность писателя он начинает обличения подобно древне библейским пророкам. (Переписка с друзьями). Его духовным глазам как бы предстало царство антихриста, и он предостерегает человечество от нависшей опасности.
Город по идее Гоголя очаг зла, в нем нет спасения даже человека, в городе разврат и обман. Описывая город Гоголь, часто говорит о тумане, который у него употребляется как метод логического разрыва мыслей или событий. В Носе туман обозначает логический разрыв между тремя частями фабулы, которые иначе не могут быть сведены к единству.[49] В этом «слепом тумане» восприятия делаются неясными как предметы, так и люди представляются фантастическими и страшными, но именно этого и хочет добиться впечатления, Гоголь убеждая читателя, что в реальности, все страшно страшно для души, телом же человек не видит. Отмечая в произведениях мрачные стороны Гоголь, обладал исключительной способностью также описывать симпатичные стороны в отрицательных типах. Это показывает его горячую веру в человека.[50]
В языке Гоголя которым написаны Петербургские повести нужно отметить тот факт, что он не в пример другим писателям почти не пользовался словами иностранными, а при немногочисленных случаях их употребления у него была цель возбудить ассоциацию идей, не вызываемых народными русскими словами. Гоголь делал это сознательно, чтобы очистить русскую речь, которую очень любил. На протяжении всех повестей комическое и серьезное у него чередуется, тон меняется в пределах сюжета и создается композиционное движение от веселого к печальному. Он умел красиво описывать даже самые страшные вещи взяточничество приставов или дом терпимости, и делал это так что читается со слезами и со смехом. Он любил создавать в своих произведениях комизм бессмыслицы. Эта бессмыслица выражалась комическим алогизмом и абсурдных умозаключений.
« по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они находятся в луне».[51]
К подобным умозаключениям приходит не только сходящий с ума чиновник Поприщин, их высказывает и ремесленник Шиллер и другие герои повестей. «Для усиления эффекта абсурдного заключения Гоголь употребляет прием затяжки, задерживания.»[52] «Среди речевых комических приемов Гоголя выделяется комизм нескладицы, которая выражается в комическом смещении сематических рядов при построении фразы в несоответствии синтаксического и смыслового движения речи, в нецелесообразном употреблении слов. Таким образом, и в построении речи мы видим у Гоголя тот же комический алогизм».[53] Гоголь искусстный мастер слова и пользовался своим даром, для того чтобы читателю ярче показать создаваемые картины. Читатель обращает на такие моменты, благодаря его умению, описывать которые он бы обыкновенно пропустил мимо своего внимания. У Гоголя было желание показать на бессмыслицу, ради которой читатель губит не только свое время, но и отдает самое ценное, чем он обладает свою душу.
Бессильные потуги мысли и нескладные обороты речи служат Гоголю неисчерпаемым источником комических эффектов. Его произведения целая кунсткамера словесных уродств.[54]
«Весьма много случаев сочетания какого-либо слова, с другим, несочетаемым; они поражают именно неожиданностью и странностью соединений, небывалостью: «Невский проспект этакой», «Этакую лету» и т.д. [55]
Одним из замечательнейших приемов Гоголя это сопоставление названий предмета или действий, которыми он достигает быстроты смены впечатлений и делает язык более юмористичным. Он переходит от одного предмета при создании своих картин к другому не имеющему к первому ни какого отношения.[56]
«Страдали и гибли маленькие униженные люди, ненавидели и сходили с ума оскорбленные. Но глухим, безучастным по всему оставался холодный, как зимняя ночь, надменный Петербург».[57]
Во время Гоголя был известен своими трудами Пьер Леру, который стяжал себе известность тем, что утверждал во Франции и других европейских странах взгляд о том, что при помощи особой «религии человечества», базировавшейся на солидарности и равности людей человечество может достигнуть светлого будущего. Он выразился что «поэзия призвана обнажить язвы общества, задача науки лечить их».[58]Гоголь видел своими духовными глазами низменность падения жителей города и полное торжество там зла и открывал эти язвы в своих произведениях в надежде, что люди обратят внимание, и будут исправлять свои недостатки. Не вина Гоголя в том, что он не был понят и был неправильно воспринят.[59] Повторилась общеизвестная истина в том, что пророк не признается своими соотечественниками, и не оцениваются делаемые им предостережения.
[1] Nilsson, N.A. Gogol et Petersbourg. Recherches sur les antecedents des contes Petersbourgeois, Almgvist & Wiksell,Stockholm 1954, p10
[2] Степанов, А.Н. Н.В. Гоголь, биография писателя. Изд. Просв. Мо-Ле 1966, стр. 59
[3] Nilsson, N.A. op. cit, p. 60.
[4] Гиппиус, В. Гоголь, изд. Мысль, Лен. 1924, стр. 53.
[5] Степанов, А.Н. ук. соч. стр. 63
[6] Гоголь Н.В. в русской критике и воспоминаниях современников. В.Г. Белинский, О русской повести и повестях г. Гоголя, Гос. Изд. Худ. Лит. 1952, стр. 62.
[7] Nabokov, Vladimir. Nikolay Gogol, N.Y. 1961, p. 10.
[8] Мериме Проспер, Статьи о русских писателях, Г.И.Х.Л., Мо. 1958, стр. 5
[9] Gunther, Hans. Das Groteske bei N.V. Gogol, Munchen 1968, p. 125.
[10] Гоголь, Н.В. Собрание сочинений в 6 томах, том 3, Г.И.Х.Л. Мо. 1949, Шинель, стр. 142.
[11] Там же, стр. 145.
[12] Там же, Невский проспект, стр. 7.
[13] Булгарин, Ф. Сочинения, том 9, СПБ 1830, стр. 213.
[14] Гоголь, Н.В. Невский проспект, стр. 8.
[15] Там же, стр. 10
[16] Поспелов, Г.Н. Творчество Н.В. Гоголя, Гос. Уч-Пед. Изд. Мо. 1953, стр. 111.
[17] Там же, стр. 111.
[18] Гоголь, Н.В. Невский проспект, стр. 10.
[19] Поспелов, Г.Н. ук. соч. стр. 112.
[20] Там же, стр. 112.
[21] Войтоловская, Э.Л., Степанов, А.Н., Н.В. Гоголь. Семинарий, Гос. Уч. Пед. Изд. Лен. 1962, стр. 100
[22] Гоголь, Н.В. Невский проспект, стр. 41.
[23] Гуковский, Г.А., Реализм Гоголя, Г.И.Х.Л. Мо-Ле. 1959, стр. 260
[24] Гоголь, Н.В. Невский проспект, стр. 41
[25] Поспелов, Г.Н. ук. соч. стр. 109.
[26] Белый, Ан. Гоголь и Маиерхольд, Сборник лит-иссл. Ассоц. ЦДРП под ред. Никитиной Е.Ф. , Мо. 1927. Стр. 19.
[27] Гоголь, Н.В. Невский проспект, стр. 41.
[28] Там же, стр. 10.
[29] Поспелов, Г.Н. ук. соч. стр. 110.
[30] Там же, стр. 115
[31] Гоголь, Н.В. Невский проспект, стр. 18.
[32] Там же, стр. 16.
[33] Виноградов, В.В. Эволюция русского натурализма, Лен. 1929, стр. 95
[34] Гиппиус, В. ук. соч. стр. 52.
[35] Гоголь Н.В. в русской критике и воспоминаниях современников, ук. авт. Стр. 68.
[36] Поспелов, Г.Н. ук. соч. стр. 112.
[37] Гоголь, Н.В. Нос, стр. 56.
[38] Поспелов, Г.Н. ук. соч. стр. 112.
[39] Гоголь, Н.В. Нос, стр. 47.
[40] Gunther, Hans, op. cit, h. 133-134
[41] Гоголь, Н.В. Нос, стр. 55.
[42] Там же, стр. 59.
[43] Степанов, А.Н. ук. соч. стр. 61.
[44] Гуковский, Г.А. ук. соч, стр. 347.
[45] Там же, стр. 349.
[46] Гоголь, Н.В. Шинель, стр. 149.
[47] Истомин, К.К. Старая манера Тургенева 1834-55, СП. 1913, стр. 91.
[48] Слонимский, А. Техника комического у Гоголя, Петр. 1923, стр. 34.
[49] Там же, стр. 61.
[50] Добровольский, Л.О. О поэзии Гоголя, Могилев, 1886, стр. 10
[51] Гоголь, Н.В. Записки сумасшедшего, стр. 183.
[52] Слонимский, А. Ук. соч. стр. 37.
[53] Там же, стр. 43.
[54] Там же, стр. 43.
[55] Мандельштам, И. О характере Гоголевского стиля, Гельсингфорс 1902, стр. 276.
[56] Там же, стр. 277.
[57] Степанов, А.Н. ук. соч. стр. 62.
[58] Добровольский, Л.О. ук. соч. стр. 5.
[59] Зеньковский, В.. Н.В. Гоголь, ИМКА-ПРЕСС, Париж, без даты, стр. 103.
«Посещение наследника Цесаревича Александра Николаевича Воткинского завода в 1837г.»
(издание Сарапульского земского музея 1912г.)
В.Ф. Бердников
Весной 1837г., как только подсохли российские дороги, 19-и летний наследник Российского престола, великий князь Александр Николаевич Романов, только окончивший основной курс обучения всем необходимым наукам, по приказу своего отца
Императора Николая I, отправился из Царского села в большое путешествие по России, с посещением Уральских заводов и Западной Сибири.
По маршруту следования его сопровождали:
Генерал-адъютант Ливен,
Генерал-адъютант Кавелин,
Полковник Юрьевич,
Действительный Статский советник В.А. Жуковский - поэт, литератор,
Действительный Статский советник К.И. Арсеньев ученый-географ и экономист,
Полковник В.И. Назимов военный инструктор,
Подпоручик граф Виельгорский,
Прапорщик Паткун,
Прапорщик Адлерберг,
Лейб-медик Энохин.
Кроме того, при Его Высочестве находились два камердинера с двумя рей-кнехтами, мунд-кох (повар) с
двумя помощниками, три фельдшера, два писаря, лекарский ученик и два магазейн-вахтера.
В.Ф. Бердников в статье «Посещение наследника Цесаревича Александра Николаевича Воткинского завода в 1837г.» (издание Сарапульского земского музея 1912г.) писал:
«Во всех фабричных фабриках чистили, мыли, скоблили. Всем горным офицерам, заведывавшими цехами были даны словесные или письменные инструкции. С не мейшей заботливостью жители завода каждый перед своим домом чистили улицы. В поселке на это время, согласно плана, было: 40
улиц и 818 обывательских домов, в которых проживало 4718 жителей мужского и 5152 женского пола.
22-го мая в 4 часа после полу дни на Воткинский казенный завод прибыло 11 экипажей из 57 лошадей и 25 человек, не считая личного конвоя. Гостей встречал, сопровождал и принимал у себя дома со своим штабом Главный горный начальник отец будущего композитора - И.П.
Чайковский.
Не доезжая до Воткинского завода три версты, цесаревича встретила жена мастерового Льва Соломенникова, встав у дороги на колени и, положив на голову свернутое белое полотенце. Наследник цесаревич, проезжая мимо, заметил ее, приказал остановиться и подозвал ее к себе.
Осчастливленная вниманием Его Высочества, Соломенникова вне себя от радости подошла к экипажу и низко поклонившись, поднесла дорогому гостю, как подарок, самой тканное полотенце, которое Его Высочество принял и поблагодарил ее.
По кратковременном отдыхе Его Высочество вышел в приемную залу и, обращаясь к начальнику завода, сказал: «Мне понравился въезд в Ваш завод; покажите мне его и расскажите, что у Вас делается». Начальник завода, объяснив кратко в чем состоят занятия завода и как велика
занимаемая его фабриками площадь, поднес Его Высочеству приготовленный портфель, в коем заключалось шесть листов с рисунками машин и кратким содержанием статистики завода. Это было сделано для того, что объяснение в фабриках по причине сильного шума машин и молотов было
невозможно.
Его Высочество, приняв весьма милостиво эти листы, пригласил начальника завода в гостиную комнату где, посадив его возле себя, приказал читать и объяснять. Вся свита великого путешественника расположилась вокруг стола и стала слушать. Краткое объяснение продолжалось около
часа и сопровождалось указанием на чертежи и модели. Его Высочество рассматривал с большим любопытством; в особенности заинтересовался моделью пудлингового устройства, которая удостоилась его одобрения. Действительный статский советник Жуковский, Энохин и полковник Юрьевич.
Эта модель представляла из себя стан (машину), с помощью которой предполагалось железо не проковывать, а прокатывать в любой сорт, требовавший по нарядам. Получив удовлетворено теоретическое объяснение всего заводского дела, Его Высочество благодарил начальника и повелел
вести его в завод.
Чтобы не затруднять высокого посетителя напрасными переходами по заводу Чайковский поднес Его Высочеству программу, в которой был изложен порядок шествия и систематическое разделение работ в каждой операции.
При входе в завод с плотины управитель завода Романов с горными офицерами (инженерами) встретил Его Высочество и поднес рапорт с табелем о распределении работ и рабочих. Потом, показав сначала пруд, плотину, высоту воды, сопровождал далее в завод. Прежде всего была показана
листопрокатная фабрика, затем: литейная, инструментальная или лафетной оковки, токарная, разноплющенная кричная № 1, пудлинговая, кричная № 2, адмиралтейская, воздуходувные машины № 3, 4, 6, 7, сталеделательная фабрика, кузнечная.
В последней Его Высочество обратил внимание на действие штампа для артиллерийской оковки. В каждой фабрике завода работали быстро и систематически. В кричной и якорной фабрике Его Высочество удивился трудам, проворству и ловкости рабочих и нигде даже не требовал объяснений,
но в интервалах от шума работ повторял только: «Хорошо, знаю». Оставшись довольным ходом работ одного мастера, положил перед ним пяти рублевую ассигнацию со словами: «Вот я, золочу твое мастерство» Достаточно сказать, что мастер получал в то время 17 копеек в день.
Чтобы в некоторой степени ознакомить Высокого Гостя с приготовлением морских якорей, Ему была показана сборка главных частей 250-и пудового якоря. В особенности Его Высочество и свиту заинтересовала «сноска» якоря. К прибытию Его Высочества в якорный цех, разумеется все было
приготовлено заблаговременно и показаны только моменты сноски и сварки якоря. В то же время, в той же якорной фабрике готовили другой якорь в 176 пудов, который Его Высочество поднесенным Ему на стальном блюде двумя стальными молотками удостоил сам ковать.
Отсюда Его Высочество посетил заводскую школу, брал ученические тетради чистописания, спрашивал учеников и ответами их, и всем увиденным остался доволен. Затем Его Высочество снова вышел на заводскую площадь, где присутствовал при вторичной пробе испытаний под копром якоря,
изготавливаемого для корабля «Силистрия». Притом по рекомендации Чайковского, благодарил адмиралтейского чиновника майора Алексеева за точное исполнение своих обязанностей по приему якорей. Из завода Его Высочество со свитой выехал в заводскую больницу. Проезжая мимо собора,
принял соборных священников и приложился к кресту. В больнице обозревал все палаты, цейхгауз, кухню, где пробовал пищу для больных, затем посетил аптеку и садясь в коляску изволил сказать: «Все в полном порядке».
При всех выездах начальник завода удостоился чести сидеть в коляске с Его Высочеством и отвечать на все вопросы, касающихся Воткинского завода дел и обстоятельств к ним относящимся. По возвращению в дом Его Высочество снова благодарил начальника за ясное изложение всего дела
и осчастливил его «пожалованием руки». Вечером, в 9 часов Его Высочество пригласил начальника на чай, где за столом довольно подробно расспрашивал его о прежней службе, о быте и характере тамошних и здешних жителей, об обществе, музыке и др. Пока продолжалась беседа завод
был иллюминирован. Его Высочество несколько раз выходил на балкон и каждый раз был встречаем радостным восклицанием народа.
Прощаясь перед сном с начальником Он приказал на другой день совершить литургию по раньше, что и было исполнено. Полковник Юрьевич писал своей жене из Воткинска: «Вечно в огне, как циклопы, выковывают сталь и железо на потребу артиллерии и флота». Даже поэт-романтик, автор
фантастических баллад и идиллических элегий, заинтересованно и увлеченно осматривал дымные и жаркие заводские цехи и в своем дневнике охватил все основные операции производства: «На Воткинском кричное производство, пудлингование, стальное, якорное, плющильное, оковка
лафетов
».
В воскресенье 24-го мая Его Высочество изволил проснуться в 5 часов, а уже в 6 часов Горный начальник представил ему всех служащих в заводе чиновников, в т.ч. и англичан, вводивших в заводе пудлинговый способ выделки железа. По окончанию представления Его Высочество, через
генерал-адъютанта Кавелина пожаловал мастеровым и рабочим 1000 рублей «на водку». После завтрака Его Высочество снова поблагодарил начальника завода и около 8 часов сел в дорожную коляску. Проезжая через поселок жители сопровождали его восклицаниями: «Доброго пути!
Счастливого пути!». Чуть позднее в заводе был устроен праздник на «Отраде» (роща) любимое место отдыха заводчан.
Якорь, в силу его причастности к царской особе, решено было оставить на заводе как память о пребывании царской особы. На имя Начальника горных заводов Уральского хребта было подано прошение за № 3596, с просьбой оставить якорь при заводе. 11-го февраля 1838г. пришел ответ из
главной канцелярии Екатеринбурга № 449. «По рапорту Вашего Высокоблагородия от 1-го декабря 1837г. о требовании Черноморским Адмиралтейством 176 пудового якоря, в ковке которого участвовал Государь Император Цесаревич, я предоставил на разрешение Господину Министру финансов,
а его Сиятельство докладывал представление мое Государю Императору и его Величество повелел соизволить якорь этот оставить в Воткинском заводе, а Черноморскому Адмиралтейству доставить другой. Таковое Высочайшее повеление я предписываю Вашему Высокоблагородию».
Генерал-Лейтенант подпись.
Монумент торжественно был открыт 16-го июня 1840г. Автором проекта был новый начальник завода В.И. Романов. Освятил его Епископ Вятский Слободской Неофит. При открытии памятника тысячное «Ура!» сливалось с гимном «Боже Царя храни».
Очевидец события титулярный советник М.В. Блинов писал: «Глазам нашим открылся якорь, как исполин, твердой ногой стоящий на пьедестале, обвешанный цепями, окруженный роскошной чугунной решеткой. На шарах красивых колонн решетки, как верные стражи, красуются двуглавые орлы с
распущенными крыльями
».
На одной из противоположных сторонах пьедестала гласила следующая надпись, состоящие из вызолоченных букв: «Его Императорское Высочество Государь цесаревич наследник Всероссийского престола, Великий князь Александр Николаевич удостоил ковать своими руками сей якорь в
Троицкой якорной фабрике при посещении своем Камско-Воткинского завода 22 мая 1837 года».
На самом якоре между его лапами с одной стороны: «Его Императорское Высочество Государь цесаревич наследник Всероссийского престола, Великий князь Александр Николаевич удостоил ковать своими руками якорь весом 176 пудов 22 мая 1837 года». С другой стороны: «Делан при Горном
Начальнике Чайковском, управителе завода майоре Романове и комиссионере адмиралтейского ведомства 12 класса Алексееве».
Известна песня, которую иногда распевали на гулянье воткинские рабочие:
В глуши далекой от столицы
Близ мест, где высится Урал
Европы с Азией граница,
А царства русского коралл.
Где Кама быстрыми волнами
Веселый берег богатит
Есть место: толстыми цепями
Обвешан якорь там стоит.
Тот якорь мощною рукою
Наследник Руси сам ковал,
Когда с любовию живою
Уральский край обозревал...
Так царь-якорь, стал первым памятником на территории современной Удмуртии, отразившим не только заводское производство, но и отношение русского рабочего к «ненавистному царскому режиму».
Удивительно, но памятник с ярко выраженным монархическим содержанием простоял до 1930г. и пошел на переплавку только в 1932г. В 1959г., к 200-летнему юбилею завода был отлит и установлен в конце плотины пруда новый якорь, но как зримое напоминание первой продукции завода.
=================================================================================
Выражаю сердечную благодарность Преосвященным Владыкам Иосифу и Андрею, духовенству и всем кто молился о благополучном проведении 4 мая операции моего сердца.
Чувствую себя хорошо, и вчера медицинское исследование, показало хорошие результаты с почти нормальной работой сердца. Верю, что это результат не настолько благодаря умению хирургов, как о помощи свыше молитв за меня.
Благодарю еще всех за молитвы
Ваш во Христе
Миннеаполис 2012-06-02 Юрий Солдатов
КАК ВЫ ЗАБЫЛИ ЕЩЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2012 ГОД ?
НО У ВАС ЕСТЬ ЕЩЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭТО СДЕЛАТЬ !
"НАША СТРАНА" ЕДИНСТВЕННАЯ ГАЗЕТА РУССКОЙ МОНАРХИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ЗАРУБЕЖНОЙ РУСИ ?
"НАША СТРАНА" ПОМОГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ЖИТЬ В ЕДИНЕНИИ С ДУХОВНЫМИ СОБЫТИЯМИ В ОТЕЧЕСТВЕ И ЗАРУБЕЖНОЙ РУСИ, ПЕРЕЖИВАЕМЫМИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ; ЗНАКОМИТЬ С ЖИЗНЬЮ РУССКИХ В РАССЕЯНИИ И В ОТЕЧЕСТВЕ, ГОВОРИТЬ О СОБЫТИЯХ, ВОЛНУЮЩИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ПОМЕЩАЕТ СТАТЬИ ОБ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЯХ И РЕЦЕНЗИИ КНИГ КАСАЮЩИХСЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ.
1948 - 2012
" Н А Ш А С Т Р А Н А "
Основана 18 сентября 1948 г. И.Л. Солоневичем. Издательница: Лидия де Кандия. Редактор: Николай Леонидович Казанцев. 9195 Collins Ave. Apt. 812, Surfside, FL. 33154, USA Tel: (305) 322-7053
Электронная версия "Нашей Страны" WWW.NASHASTRANA.NET
Просим выписывать чеки на имя редактора с заметкой "for deposit only" Денежные переводы на: Bank of America, 5350 W. Flagler St. Miami, FL. 33134, USA. Account: 898018536040. Routing: 063000047.
Цена годовой подписки: В Аргентине - 100 песо, Европе 55 евро, Австралии - 80 долл. Канаде - 70 долл. США - 65 ам. долл. Выписывать чеки на имя:Nicolas Kasanzew, for deposit only.
===============================================================================================
ВЕРНОСТЬ (FIDELITY) Церковно-общественное издание
Общества Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого).
Председатель Общества и главный редактор: проф. Г.М. Солдатов. Технический редактор: А. Е. Солдатова
President of The Blessed Metropolitan Anthony (Khrapovitsky) Memorial Society and Editor in-Chief: Prof. G.M. Soldatow
Сноситься с редакцией можно по е-почте: GeorgeSoldatow@Yahoo.com или
The Metropolitan Anthony Society, 3217-32nd Ave. NE, St. Anthony Village, MN 55418, USA
Secretary/Treasurer: Mr. Valentin Wladimirovich Scheglovski, P.O. BOX 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
Список членов Правления Общества и Представителей находится на главной странице под: Contact
To see the Board of Directors and Representatives of the Society , go to www.metanthonymemorial.org and click on Contact
Please send your membership application to: Просьба посылать заявления о вступлении в Общество:
Treasurer/ Казначей: Mr. Valentin Wladimirovich Scheglovski, P.O. BOX 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
При перепечатке ссылка на Верность ОБЯЗАТЕЛЬНА © FIDELITY
Пожалуйста, присылайте ваши материалы. Не принятые к печати материалы не возвращаются.
Нам необходимо найти людей желающих делать для Верности переводы с русского на английский, испанский, французский, немецкий и португальский языки.
Мнения авторов не обязательно выражают мнение редакции. Редакция оставляет за собой право редактировать, сокращать публикуемые материалы. Мы нуждаемся в вашей духовной и финансовой поддержке.
Any view, claim, or opinion contained in an article are those of its author and do not necessarily represent those of the Blessed Metr. Anthony Memorial Society or the editorial board of its publication, Fidelity.
===========================================================================
ОБЩЕСТВО БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
По-прежнему ведет свою деятельность и продолжает издавать электронный вестник «Верность» исключительно за счет членских взносов и пожертвований единомышленников по борьбе против присоединения РПЦЗ к псевдоцеркви--Московской Патриархии. Мы обращаемся кo всем сочувствующим с предложением записаться в члены «Общества» или сделать пожертвование, а уже ставшим членам «Общества» напоминаем o возобновлении своих членских взносов за 2006 год.
Секретарь-казначей «Общества» В.В. Щегловский
The Blessed Metropolitan Anthony Society published in the past, and will continue to publish the reasons why we can not accept at the present time a "unia" with the MP. Other publications are doing the same, for example the Russian language newspaper "Nasha Strana" www.nashastrana.net (N.L. Kasanzew, Ed.) and on the Internet "Sapadno-Evropeyskyy Viestnik" http://www.karlovtchanin.eu, (Rev.Protodeacon Dr. Herman-Ivanoff Trinadtzaty, Ed.). Russian True Orthodox Church publication in English: http://ripc.info/eng, in Russian: www.catacomb.org.ua, There is a considerably large group of supporters against a union with the MP; and our Society has representatives in many countries around the world including the RF and the Ukraine. We are grateful for the correspondence and donations from many people that arrive daily. With this support, we can continue to demand that the Church leadership follow the Holy Canons and Teachings of the Orthodox Church.
===========================================================================================================================================================================================
![]()
БЛАНК О ВСТУПЛЕНИИ - MEMBERSHIP APPLICATION
ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ БЛАЖЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦКОГО) THE BLESSED METROPOLITAN ANTHONY MEMORIAL SOCIETY
Желаю вступить в члены общества. Мой годовой членский взнос в размере $ 25
с семьи прилагаю. Учащиеся платят $ 10. Сумма членского взноса относится только к жителям США, Канады и Австралии, остальные платят сколько могут.
(Более крупные суммы на почтовые, типографские и другие расходы принимаются с благодарностью.)
I wish to join the Society and am enclosing the annual membership dues in the amount of $25 per family. Students
pay $ 10. The amount of annual dues is only for those in US, Canada and Australia. Others pay as much as they can afford.
(Larger amounts for postage, typographical and other expenses will be greatly appreciated)
ИМЯ - ОТЧЕСТВО
- ФАМИЛИЯ _______________________________________________________________NAMEPATRONYMIC (if any)LAST NAME _______________________________________________________
АДРЕС И ТЕЛЕФОН:___________________________________________________________________________
ADDRESS & TELEPHONE ____________________________________________________________________________
Если Вы прихожан/ин/ка РПЦЗ или просто посещаете там церковь, то согласны ли Вы быть Представителем Общества в Вашем приходе? В таком случае, пожалуйста укажите ниже название и место прихода.
If you are a parishioner of ROCA/ROCOR or just attend church there, would you agree to become a Representative of the Society in your parish? In that case, please give the name and the location of the parish:
===============================================================================================