ВЕРНОСТЬ
- FIDELITY№ 207
(2004 - 2016)
OCTOBER/ ОКТЯБРЬ
3CONTENTS –
ОГЛАВЛЕНИЕThe Editorial Board is glad to inform our Readers that this issue of “FIDELITY” has articles in Russian Language.
С удовлетворением сообщаем, что в этом номере журнала “ВЕРНОСТЬ” помещены статьи на русском языке.
НОВАЯ КНИГА
1. НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ. Новгородско-Тверской
Епископ ДИОНИСИЙ
.2. БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ВЕЛИКОГО АВВЫ.К 80-летию кончины Митрополита Антония.
Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
3. WHY ORTHODOXY AND EVOLUTIONISM ARE INCOMPATIBLE. Dr. Vladimir Moss
4. НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ. Светлана Светлова-Ягодина
5. О ГЕРОЯХ И ПРЕДАТЕЛЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. К 75-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО КОРПУСА
НА БАЛКАНАХ 12 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА. Николай Казанцев
6.
ПРИСЯГА . Елена Семёнова7
. THE FALL OF THE SERBIAN AND BULGARIAN CHURCHES. Dr. Vladimir Moss8.
. МЫ ЖИВЫ ЕЩЕ.. Елена Семёнова9.
TO MOTHER-IN-LAW. Egbert ShepardMarsh Jr.10. НОВОРОССИЙСКИЙ РАЗЛОМ. Елена Семёнова
11. О ГОСПОДИ СИЛ... Елена Семёнова
12. DOES CULTURE COUNT? Dr. Vladimir Moss
13. Н.В. ГОГОЛЬ: НА СТУПЕНЯХ К СЕДЬМОМУ НЕБУ. Елена
СемёноваВместо эпилога: Н.В. Гоголь: наследие и наследники
14. THE HOLY GOD-SEER MOSES AND THE THEOLOGY OF ICONS. Dr. Vladimir Moss
1
5. Д Е П О Р Т А Ц И Я.16. Российские немцы хотят вернуться из
Германии в Крым17. SHAKESPEARE AND ORTHODOX CHRISTIANITY. Dr. Vladimir Moss
18. THE CHURCH OF CHRIST. Egbert Shepard Marsh Jr.
19. ВАЖНОСТЬ ХОРОШЕЙ ИНФОРМАЦИИ, Г.М. Солдатов
К
80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ БЛАЖЕННЕЙШЕГОМИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
28 ИЮЛЯ / 10 АВГУСТА 1936г. – 28 ИЮЛЯ / 10 АВГУСТА 2016г.
![]()
ЭТОТ НОМЕР «ВЕРНОСТИ» ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ.
THIS ISSUE OF "FIDELITY" IS DEDICATED TO THE MEMORY OF THE BLESSED METROPOLITAN ANTHONY.
Αίωνί α ή μνήμη * Memory Eternal * Вечная память
(1863-1936)
**
НОВАЯ КНИГА
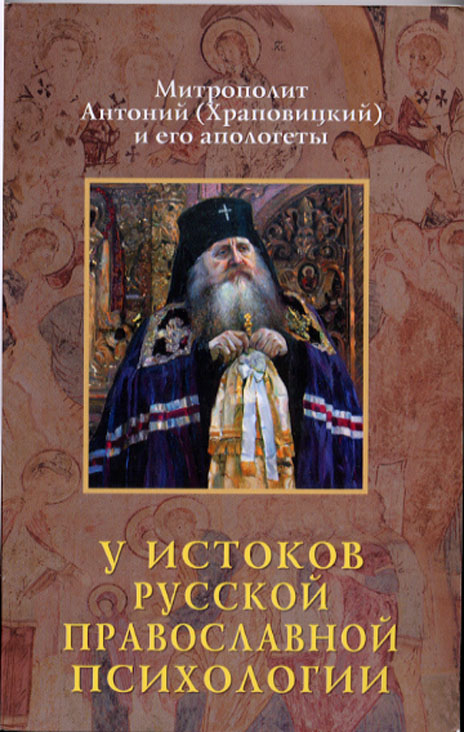
Религиозно-философская библиотека
Митрополит
Антоний (Храповицкий)
И его апологеты
У ИСТОКОВ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
К 80-летию блаженнейшей кончины
Первоиерарха РПЦЗ Митрополита
Антония (Храповицкого)
АЙРИС – ПРЕСС
Москва
2016
Мягкий переплет, мелкий шрифт 352 стр.
Сборник посвящен редкой в отечественной богословской науке психологической тематике, у истоков которой в дореволюционную пору стоял будущий первоиерарх РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий) (1863-1936). В сборник включены магистерская диссертация (1887)
("Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности") иеромонаха Антония (Храповицкого) и две работы его учеников времени ректорства Казанской Духовной Академии.Издание посвящено 80-летию блаженнейшей кончины митрополита Антония (Храповицкого). Она будет интересна и полезна современным российским богословам, философам и психологам, желающим расширить свои познания в области православной психологии.
Научное издание выпущено благодаря большим трудам Александра Михайловича Хитрова, который ездил по Российским просторам для нахождения материалов для книги. Он специально ездил для этого в Казань и другие города и для издания написал предисловие. Русские православные верующие останутся ему, бесконечно благодарны, за его труды по составлению этого сборника, благодаря которому смогут познакомиться с не включенным в многотомное заграничное издание Арх. Никона (Рклицкого), а также учеников Владыки Митрополита Петра Колотинского и Николая Началова продолживших и расширивших идеи Блаженнейшего Владыки Митрополита.
* * *
НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ
Новгородско-Тверской Епископ ДИОНИСИЙ
Исполнилось 70 лет со дня блаженной кончины великого иерарха Русской Церкви Митрополита Антония (Храповицкого). В скорбные для Русской Церкви дни отмечалась эта годовщина. Детище митр. Антония, в которое он вложил всю свою душу и сердце, которому отдал все свои силы, – Русская Зарубежная Церковь – находится в состоянии духовного упадка и организационного развала. Одна ее часть с большинством епископата пошла на соединение с апостасийной Московской Патриархией, другая ушла в дебри безчинного и экстремистского сектантства. Верим, что Промыслом Божиим сохранился еще малый остаток верных заветам митр. Антония, хотя и сильно рассеянный, но который по милости Божией может снова собраться и возрасти.
Одной из главных причин кризиса в Зарубежной Церкви в последние десятилетия явилось забвение духовного наследия ее основателя, его учения, утрата его духа церковной жизни, забвение его пастырского подхода. Достаточно сказать, что многотомное «Жизнеописание митр. Антония» – замечательный, капитальный труд, составленный архиепскопом Никоном, содержащий массу интересных сведений о Владыке и все его основные труды, хотя и издан был небольшим тиражом, но целые десятилетия пролежал на складе в Джорданвилльском монастыре, не востребованный и не изученный даже большинством духовенства, не говоря уже о мiрянах. Большинство членов РПЦЗ в 90-е годы просто не знали трудов митр. Антония, а из тех, кто знал, многие, шагая в ногу со временем, постарались скорее забыть.
Между тем, митр. Антоний был одной из самых крупных и ярких, если не самой крупной фигурой Русской Церкви ХХ века, выделявшейся даже на фоне целой плеяды незаурядных и выдающихся архипастырей предреволюционной и последующей эпохи, многие из которых стали Новомучениками и Исповедниками. Для многих из них митр. Антоний был не только наставником с академической скамьи, но и оставался духовным руководителем в течение всей их дальнейшей жизни.
Те идеи, которые выдвинул митр. Антоний, разрабатывали в течение ХХ века разные люди, не только его непосредственные ученики или друзья, но и лица, относившиеся к нему критически и даже враждебно. В частности, даже лучшие идеи так называемого «неопатристического синтеза», развиваемые «парижской школой», то есть стремление соединить традиции исторического православия с достижениями современной науки (библейской, церковно-исторической, патрологической) и дать через это новый импульс православной проповеди в современном мiре, достойный ответ на запросы времени, – эти идеи, несомненно, восходят к митр. Антонию. Владыка был представителем именно такого православия: одновременно и древнего и вечно юного, сохраняющего верность Вселенскому Преданию Церкви и в то же время доходчиво и убедительно проповедующего своим современникам о Христе и новой жизни в Нем. Для того митр. Антоний блестяще знал и православное богословие на академическом уровне, и одновременно искания современной ему философии и литературы, чтобы, по его словам, уметь показать искателю истины, что те добрые мысли, которые отчасти и превратно доступны были человеку, пока он жил вне Христа и Его Церкви, в своей полноте и чистоте даруются тем, кто пребывает в Церкви Христовой. Для митр. Антония Православие не было ни закрытой системой, закованной в мертвый обряд (хотя он знал и любил красоту православного богослужения), ни сухой академической наукой (хотя он знал и ценил ее и тружеников ее). Для него православная Церковь не исчерпывалась храмовым богослужением или духовной школой, а была, прежде всего, новой жизнью во Христе, к которой она приобщает своих чад через разные формы деятельности.
Величие митр. Антония в том, что он своим умом и сердцем, словом и делом охватывал и примирял разные стороны церковной жизни. Многие дилеммы, казавшиеся его современникам неразрешимыми, получали у него гармоничное разрешение, снижавшее остроту противоречий, часто искусственных. Проблемы сочетания догматики, этики и мистики, патриаршества и соборности, монашества и пастырства, народного благочестия и богословской науки, национальной идеи и вселенского Предания, получили у него правильное разрешение. В этом он был подобен великим отцам Церкви эпохи Вселенских соборов, которые не только боролись с ересями, но прежде всего утверждали Православие во всей полноте и чистоте, отвергая уклоны и влево, и вправо, не впадая в борьбе с одной крайностью в противоположную.
Православие для митр. Антония – это подлинная вера Вселенской, Кафолической Церкви, органическая связь с прошлым и столь же живая связь с настоящим, с братьями во Христе из всех поместных Церквей. При этом его пастырский взор обнимал и многих, стоящих вне Православной Церкви, и даже не христиан, всех, ищущих истину. И таким людям, будь то баптисты или униаты, нигилисты или мусульмане, митр. Антоний умел доходчиво проповедать истину Православия.
Нравственное значение догматов
Практические установки для церковной деятельности вытекали у митр. Антония из его нравственных идеалов. Он сумел раскрыть и показать нравственные идеи важнейших христианских догматов о Троице, о Святом Духе, об Искуплении, о Церкви, соединив их все в единую догматическую систему. К его времени догматика превратилась в сухую формальную дисциплину, а этика – в столь же сухое морализаторство. Набор отвлеченных формулировок, как догматических, так и нравственных, усваиваемых одной памятью не влиял ни на мiровоззрение человека, ни на его жизнь. В русском обществе получил распространение адогматический морализм; господствовало мнение, будто в христианстве самое важное – нравственные предписания, которые якобы совместимы с любыми догматами, а сами носят лишь внешний характер.
Митрополит Антоний поставил задачей «раскрыть связь Нагорной проповеди с символом веры», он показал взаимную обусловленность догматов и евангельских заповедей. Тем самым он сумел оживить и догматику, и этику, которым в сознании человека так не хватало друг друга. Не умаляя ценности догматов самих по себе, как выражающих в богоприличных словах Откровение Божие, Владыка раскрыл их нравственный смысл, показав, что убедительной и жизненной мораль может быть, только если она основана на христианской догматике.
Предреволюционная эпоха в России характеризовалась падением нравов во всех слоях общества, и в это время для христианского проповедника было особо важно обратить повышенное внимание на вопросы нравственные. В далекое прошлое ушли времена Вселенских соборов с их догматическими спорами. Теперь людям требовался ясный и убедительный ответ на вопросы об относительности истины, понятий добра и зла, заповедей Божиих, о соотношении цели и средств и т.д. Главные искушения, постигшие пастырей Русской Церкви в те времена, также касались нравственной области, а не догматики : отношение христианина к богоборческой власти, возможность компромиссов с нею и пределы их. Падения случались именно в этой области. Нынешнее отпадение руководства РПЦЗ(Л) в унию с МП случилось также по безпринципности одних и равнодушию других к добру и злу. Поэтому урок митр. Антония для нашего времени весьма важен. Не может быть истинного православия при нравственном минимализме, тем более при безразличии к нравственным вопросам.
Личная ответственность христианина и общественный быт.
Вслед за славянофилами митр. Антоний признавал благотворность воцерковленного общественного быта в деле воспитания христианина. Поэтому он высоко оценивал церковность Московской Руси, когда народный быт, проникнутый жизнью Церкви, помогал каждому православному жить во Христе. А в расцерковленном буржуазном быте Запада Владыка справедливо видел антихристианские начала эгоизма, самоутверждения, наживы и нечистых удовольствий.
Но при этом решающее значение митр. Антоний отдавал свободной воле самого человека. Его магистерская диссертация называлась : «Психологические данные в пользу свободы воли». В пастырском делании он видел главной задачей помощь человеку в пробуждении и укреплении доброго произволения, чтобы дотоле дремавшие добрые чувства и стремления пришли в действие. В наставлении пастырям он подчеркивал важность личного самоопределения, личной ответственности, личного исповедничества христианина в условиях общественного отступления от Христа и от духа Евангелия. Очевидно, что слабая личная ответственность членов РПЦЗ и особенно пастырей была одной из главных причин успеха в проведении унии лавровского Сvнода с МП.
Свобода Церкви от мiра и ее служение в мiре
Митр. Антоний сознавал и чувствовал богочеловеческую природу Церкви, ее неотмiрность. Он писал, что человек тогда только по-настоящему обращается к Церкви, когда испытывает полную неудовлетворенность от жизни по законам мiра сего, основанных на эгоизме и принуждении. Подлинная Церковь Христова должна являть собою иную жизнь, основанную на самоотвержении и любви. Церковь должна быть образцом нравственной жизни для мiра сего и привлекать к себе людей нравственно лучших из неверующих, ищущих правды жизни. Митр. Антоний подчеркивал, что успешная церковная деятельность зависит не от внешнего положения Церкви в мiре, не от ее богатства и связи с сильными мiра сего, а прежде всего, от внутреннего состояния ее пастырей, их внутренней свободы от стихий мiра.
Этой внутренней свободе Церкви должно соответствовать и внешнее церковное управление. Оно не должно быть подчинено государству или иным политическим силам. Борьба митр. Антония за восстановление соборности и патриаршества была борьбой за самоуправление Церкви, против засилья казенного чиновничьего духа, проникшего в церковное управление в сvнодальный период, за соборное, вдохновляемое свыше решение задач церковной жизни. Мертвящий чиновничий формализм сковывал живые творческие силы в Церкви, не давал им проявиться в должной мере.
При этом митр. Антоний отдавал должное иерархическому началу. Не мiряне-чиновники, не представители бюрократии, должны руководить церковной жизнью, а иерархи – носители священного сана, продолжатели Христова служения. И если это касалось положения Церкви еще в христианском государстве, то тем более митр. Антоний выступал против подчинения Церкви расцерковленному, секулярному государству, отвергающему христианские начала.
В наше время проблема обмiрщения Церкви и утрата ею внутренней свободы является одной из важнейших. Падение лавровского Сvнода есть очевидный результат такого обмiрщения, внутреннего слияния с мiром сим, и как следствие этого, внешнего подчинения враждебным Церкви силам.
Пастырское служение
Одной из главных тем наследия митр. Антония, которой он учил и словом, и паче того личным своим примером, является тема пастырского служения. Священство в его понимании есть продолжение служения Христова по духовному возрождению людей. Основа его – сострадательная любовь к пасомым, получаемая в таинстве священства и возгреваемая собственными усилиями пастыря. Священник не чиновник, не формальный функционер церковной системы, не наемник, пусть даже добросовестный («по послушанию»), а подлинный духовный отец своих чад во Христе. Не клерикал, господствующий над паствой, имеющий льготы перед мiрянами, а подвижник, несущий крест пастырского служения.
Разделяя сердцем нужды приходского духовенства, Владыка противостоял его узко-сословным притязаниям, клерикализму в западном, латинском духе.
Мерило для православного пастыря – его пастырская совесть, испытуемая перед Крестом Христовым, а не просто добропорядочная деятельность перед людьми. Испытание пастырской совести и возгревание подлинного христианского пастырского духа – одна из насущнейших проблем нашего времени.
Личность Первоиерарха и соборность Церкви
Митр. Антоний глубоко чувствовал и понимал мистическую природу церковной соборности и проникновенно выражал ее в своих трудах, таких как «Нравственное значение догмата о Церкви». Он был одним из главных борцов за восстановление в Русской Церкви соборности и патриаршества. Патриаршество мыслилось у него не как механическая реставрация церковной институции XVII века, а как духовно-творческое действие в новых условиях, с сохранением лучших традиций исторического прошлого. Восстановление соборности и патриаршества начала ХХ века было преодолением дефектов предыдущей эпохи, результатом их критического переосмысления. Не просто возвращением к старым каноническим формам, но и наполнением их новым духом любви к братьям во Христе, церковным единством в свободе.
Здесь огромную роль сыграли не только идеи митр. Антония, но и его личность, его простота, доброта, открытость, равное, товарищеское отношение к ученикам и младшим пастырям, чуждое всякого высокомерия и чванства. Братство учеников митр. Антония (из них около 50 архиереев – половина епископата Русской Церкви перед революцией) было школой подлинной соборности.
Восстановление патриаршества и мыслилось, как увенчание церковной соборности, а не отстраивание в Церкви чьей-то единоличной власти. Первоиерарх поместной Церкви – первый среди равных по чести, первенствующий в любви среди собратьев по сану и служению. Первенство чести патриарха в значительной мере связывалось с его личными качествами, с его личным авторитетом, как архипастыря и христианина.
Христианство не существует вне личности, в центре его стоит не безликий закон, а живая личность Богочеловека Иисуса Христа. Дух и учение Нового Завета выражали и передавали преемники учеников Христовых – пастыри Церкви, и не только в своих письменных трудах, но главным образом – личным примером. Откровение Божие доходит до христиан не иначе, как преломляясь в личности проповедников.
Поэтому предстоятель Церкви должен наиболее точно и полно выражать ее учение, ее дух, и лично ему соответствовать в наибольшей мере, председательствуя в любви среди сопастырей. Такой первоиерарх должен являться центром соборного притяжения и церковного единства. Он не просто собирает соборы и председательствует на них, но и объединяет пастырей в духе и истине. Митр. Антоний, раскрывая смысл православного понимания соборности, подчеркивал, что 34-е Апостольское правило, устанавливающее старшинство в местной церкви («епископам каждого народа надлежит знать старшего…»), уподобляет единство собора архипастырей во главе с предстоятелем – единству Лиц Святой Троицы. Сам митр. Антоний, действительно выделяясь по своим личным качествам, обладал в то же время глубоким чувством соборности, был совершенно чужд личного произвола и властолюбия.
Традиции местной и вселенской Церкви
Митр. Антоний гармонично сочетал любовь к традиции Русской поместной Церкви с уважением к преданию Вселенской Церкви. Он ценил местные церковные традиции в тех епархиях, где служил, а также благочестивые народные обычаи, внушенные любовью ко Христу и согласные с духом Евангелия. Он уважал и старый обряд, иногда и сам служил по нему, поддерживал единоверчество и стремился к возвращению старообрядцев в Церковь. Он с сочувствием относился к православным народам Востока и Балкан, уважая их обычаи. Показательно, что греки считали его «фил-эллином», славяне – славянофилом, а сам себя он называл в ответ «пан-ортодоксом», то есть ревнителем о всех православных. Более всего он ценил православное единство и болезненно переживал его нарушения. Он порицал любые проявления шовинизма в разных народах, разрушающего это единство. Местные предания и традиции он никогда не ставил рядом со Вселенским Преданием Церкви.
Отношение к богоборческой революции и коммунистическому режиму
Исходя из своих идеалов, подлинно христианских и православно-церковных, митр. Антоний, безусловно, не признавал богоборческую революцию и до самой кончины поддерживал Белых борцов с большевицким режимом. Руководила им при этом вовсе не ненависть (как его ложно обвиняли подголоски большевиков), а любовь. Любовь ко Христу и к братьям-христианам, замученным богоборцами и принуждаемым к отречению от веры. Любовь к Церкви и скорбь об отпадении от нее тысяч людей, соблазняемых и принуждаемых богоборческим режимом. Любовь к церковным и национальным святыням и скорбь об их осквернении богоборцами. Эта скорбь преждевременно подорвала его силы и ускорила его кончину.
На борьбу против большевиков он смотрел как на борьбу за дело Божие и оставался ему верен от начала до конца, не идя ни на какие уступки. Во время Гражданской войны он поддерживал Белое движение, возглавлял ВЦУ на Юге России. В эмиграции организовал свободную Русскую Зарубежную Церковь и возглавил ее Сvнод. Он последовательно отвергал все компромиссы с богоборцами, предложения признать революцию, как волю Бога или народа, а среди большевиков увидеть некую «эволюцию в государственников», то есть не поддавался на разные соблазны «сменовеховцев» и «евразийцев». Он смотрел в корень : суть большевиков – религиозная и фанатическая ненависть ко Христу, Богу и Церкви, которая не эволюционирует, а только маскируется в зависимости от выгоды в данный момент. И тогда все эти «государственные инстинкты» большевиков, их «патриотизм» ничего не стоят и суть только пропагандные приемы.
Митр. Антоний категорически отверг Декларацию митр. Сергия 1927 г., причем самым первым, и дал развернутый анализ как самого документа, так и последующего сергианского курса. Он оценил сергианство как предательство Церкви, сговор с врагами Христа, как отречение от новых мучеников и страждущих в заточении исповедников. Он видел в сергианстве порабощение Церкви богоборческим государством, превращение ее в часть государственной машины (декоративную, разумеется, часть), а также полное разрушение соборности. Он указал, что сергианство превращает пастыря в пособника коммунистической власти, агитатора и доносчика. Все православие превращается в сергианском формате лишь в пустую внешность из обрядов и абстрактных догматов, лишенных нравственной правды и жизненной силы влияния на людей.
Для митр. Антония развернутая критика сергианства была не «политикой» (в чем его ложно обвиняли союзники большевиков), а защитой духовных идеалов, которым он остался до конца верен. Это были чисто церковные идеалы духовной свободы личности, христианской нравственности, подлинного пастырства, свободы Церкви и ее соборного строя. Все эти стороны сергианство искажало и отравляло, оставляя от Православия видимость, лишенную жизненной силы – Христа.
Наследие митр. Антония составляет единую и цельную систему взглядов и жизненных установок и лежит в основе предания Зарубежной Церкви. Это предание вполне соответствует Вселенскому Преданию Церкви. И пока оно жило в умах и сердцах пастырей РПЦЗ, пока они им руководствовались, сама Зарубежная Церковь служила ориентиром для всех ищущих истинного Православия. Только полное забвение наследия митр. Антония одними, измена ему со стороны других, то есть полное духовное перерождение РПЦЗ, сделало возможным невозможное – унию Зарубежной Церкви со своим главным гонителем и идейным противником – Московской Патриархией, причем без всяких уступок или извинений за прошлое со стороны последней.
Утешает только то, что наследие митр. Антония не исчезло совсем, оно передано на родину вместе с его трудами, и кое-как изучается, хотя еще очень немногими русскими людьми. Русская Зарубежная Церковь тоже не исчезла бесследно и не сдалась полностью, но в ней сохранился малый остаток верных идеалам своего основателя. Церковная история продолжается. И остается надежда на то, что наследие великого архипастыря еще будет востребовано и принесет добрые духовные плоды на его родной земле.
* * *
БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ВЕЛИКОГО АВВЫ
К 80-летию кончины Митрополита Антония
Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
Есть юбилеи, которые нельзя пропускать. Без постоянного памятствования о нашем прошлом, о наших корнях, мы становимся настоящими ''иванами, не помнящими родства'' и распыляемся в окружающем нас падшем мiре. Но если мы хотим быть носителями нашего великого прошлого, то должны постоянно иметь перед глазами, в памяти, перед духовным взором пример и подвиг наших Отцов.Если мы себя считаем Русскими и законно гордимся нашей русскостью, то должны ежегодно вспоминать подвиг святого Царя-Мученика, подвиг наших Отцов, сражавшихся в Белом Движении за правду и честь России и по мере возможности пытаться быть их достойными наследниками, хранить в своих сердцах ту Россию, которую они нам передали, то воспитание, ту культуру, ту нравственность, которые нас связывают с исчезнувшей Россией, к которой нам дано было прикасаться в общении с ними в среде Белой Эмиграции, этой истинной России вне России.
Если мы себя считаем Зарубежниками, то должны постоянно памятствовать об Отцах-Основателях нашего спасительного Зарубежного ковчега, а в первую очередь должны с благодарностью вспоминать и почитать совершенно уникальную личность Блаженнейшего Митрополита Антония, Основоположника Русской Зарубежной Церкви, и по мере возможности пытаться быть достойными того наследия, которое он нам оставил. И сегодня как никогда знаем, как трудно это даётся …
Да, восемьдесят лет назад, 28 июля/10 августа 1936 года, отошёл в иной лучший мiръ многогранный иерарх, который благодаря своей обширной деятельности может смело быть назван воплотителем Православия в период конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Подумать — в возрасте двадцати семи лет он был назначен ректором Московской Академии ! За всю свою историю Академия не знала такого молодого ректора. Известно какое влияние он оказал на учащихся, сколько среди них, под его влиянием, приняли монашество и Академия стала рассадником будущих видных учёных иерархов. В просвещённом монашестве он видел залог всестороннего возрождения Церкви и спасения России, пламенным патриотом которой он был.
Митрополит Антоний был великим преобразователем, как в области богословской мысли, так и в области церковной организации. Никто лучше от. Георгия Граббе, будущего Епископа Григория, многолетнего сотрудника Митрополита и в течении почти пятидесятилетия Секретаря Архиерейского Сvнода Зарубежной Церкви, не характеризовал вклад своего маститого учителя в историю русского богословия : «Хомяков пробил брешь в стене чужеродного схоластического богословия. Митрополит Антоний развил и завершил эту победу». Преобразователем был он не на манер революционеров, а был истинным возродителем, стиравшим как искусный, кропотливый мастер чужеродные наслоения западной мысли, засорившие за последние два века русское богословие.
Митрополит, в частности, уделил много времени и усилий, чтобы открыть глаза своим современникам и соотечественникам на скрытую опасность римо-католичества, особенно после указа 1905 года о веротерпимости, когда католики занялись активным прозелитизмом среди русского народа. Но Русским трудно было составить правильное понятие о католичестве, поскольку «руководства, по которым мы учились в школе и которые составляют содержание нашей богословской науки заимствованы у католиков и протестантов ; у нас только опущены известные всем и осуждённые церковными авторитетами прямые заблуждения инославия». Понятно почему наш великий Авва был в дореволюционной России горячим сторонником преобразования академических программ, которые, увы, как сказано, были составлены по примеру западных богословских школ. Все свои силы приложил он на то, чтобы высвободить Церковь из оков мертвящей схоластики, сократить преподавание систем и вернуть русское богословие к изучению первоисточников, вернуть к святоотеческому Православию. Скорбел он, видя как далеко отстояла от действительной духовной жизни православного народа богословская наука, создававшаяся по принципам, списанным из западных систем.
В этом отношении, Митрополит Антоний уделял особое внимание догмату Искупления, о котором он оставил в отдельном трактате из нескольких десятков страниц краткое, но весьма яркое свидетельство того, что ему представлялось основным расхождением между православным и католическим богословием. Его «Догмат Искупления», несмотря на свою сжатость, — ведь составлен он был в начале революции, в обстановке ограниченной свободы, можно сказать фактически в плену, не располагая необходимой литературой и написанный на одном дыхании за какой-то десяток дней — тем не менее может считаться вершиной его богословского творчества. На первый план ставится нравственная сторона догмата в отличие от схоластической теории католиков сатисфакции, то-есть удовлетворения гневу Божию, развитой Ансельмом Кентерберийском и Фомой Аквинатским, теории основанной на феодальном представлении о рыцарской чести с пролитием крови равного по рангу обидчика.
Как ни странно, до сих пор есть люди выражающие несогласие с мыслями Митрополита Антония, упрекая его в том, что он будто умаляет значение крестной смерти и воскресения Сына Божия в деле искупления человечества, что естественно является несостоятельным упрёком, что легко можно проверить, просмотрев его прочие писания. Митрополит Антоний, естественно, никак не умалял крестные Христовы страсти, но, опровергая неуместную латинскую теорию сатисфакции, подчёркивал наоборот огромное и забытое латинянами значение пережитых в Гефсиманском саду Его нравственных мук.
Некоторые подчёркивают критические суждения о богословских воззрениях Митрополита, зато умалчивают положительные веские отзывы на них. Среди таких, как ни странно, можно отметить его бывшего ученика и затем, увы, первого советского патриарха, Сергия /Страгородского/. Если митрополит Сергий вдоволь показал свою идеологическую несостоятельность, примкнув первое время к обновленцам, затем кощунственно подписав Декларацию о лояльности советской власти, нельзя однако отрицать его богословскую учёность, которую он между прочим проявил, опровергая лжеучение Толстого, но главный его богословский труд «Православное учение о спасении», магистерская диссертация, защищённая в 1895 году, был написан по настоянию его учителя, тогдашнего архимандрита Антония, ректора Московской и затем Казанской Духовной Академии. Один из самых выдающихся современных богословов, серб, преподобный Иустин /Попович/, написал свою знаменитую «Догматику Православной Церкви», в которой изложение догмата искупления вполне созвучно с мыслью Митрополита Антония, о котором он однажды написал, что по отношению к нашему великому святителю, он в положении муравья, говорящего о парящем орле.
Таких примеров и высказываний можно было бы много приводить. Ограничимся словами будущего новомученика, выдающегося богослова и экклезиолога архимандрита Илариона /Троицкого/ : «Католических ересей насчитывали целые десятки, но не указывали основного пагубного заблуждения латинства. В схоластическом учении о спасении прежде всего должны быть снесены до основания два форта, два понятия : удовлетворение и заслуга. Эти два понятия должны быть выброшены из богословия без остатка, навсегда и окончательно!». Не над этим ли трудился наш великий Авва ?
Признание величины Митрополита Антония свойственно не только Зарубежной Церкви, свойственно оно было и всей Русской Церкви до революции. Характерно оно было и на всеправославном уровне. Напомним кратко, что на Поместном Соборе 1917 года, восстановившем Патриаршество, повальное большинство участников проголосовало за Владыку Антония, чтобы занять пустующую в течении двухсот лет высшую кафедру, незаконно обезглавленной Церкви. Сам св. Патриарх Тихон признал, что без целеустремлённой деятельности Владыки Антония в течении двадцати лет, совершенно выветривившаяся из церковного сознания идея Патриаршества никогда бы не осуществилась, не будь усердного и ревностного носителя этой идеи. Такой человек был дан России и Церкви в лице Митрополита Антония.
Был он также в личном контакте с восточными патриархами, пользовался известностью, уважением и авторитетом во всем православном мiре. До войны, в 1912 году, Константинопольский патриарх назначил его своим экзархом в Галиции и на Карпатской Руси, что не помешало ему, уже после революции, с авторитетом возвышать свой голос против реформ, вводимых Патриархом Константинопольским после Всеправославного Собора 1923 года. Сербский Патриарх Варнава несколько лет спустя вспоминал : «Когда в начале послевоенных годов волна модернизма захлестнула почти все Церкви Востока, она разбилась о скалу митрополита Антония». Тот же Патриарх Варнава, под председательством которого собрались в 1934 году части расколотой Зарубежной Церкви, дабы найти пути примирения, сказал им : «Среди вас находится митрополит Антоний, этот великий иерарх, являющийся украшением Вселенской Православной Церкви. Это высокий ум, который подобен первым иерархам Церкви Христовой в начале христианства. В нем и заключается церковная правда. Вы все, не только живущие в нашей Югославии, но и находящиеся в Европе, в Америке и в Азии и во всех странах мiра должны составлять, во главе с вашим великим архипастырем, митрополитом Антонием, несокрушимое целое, не поддающееся нападкам и провокациям врагов Церкви». Вот каким всеправославным авторитетом пользовался Основоположник Зарубежной Церкви ! … В нём заключается церковная правда … О многих ли иерархах во всей истории Церкви говорились такие слова ?...
Для более менее общей картины нельзя не упомянуть личное обаяние Митрополита. Обаяние не внешнее, показное, пленяло оно каждого с первой встречи. Общение с ним было лишено всякого формализма, пользовался он глубокой, искренней любовью молодёжи, в частности семинаристов, студентов. Очаровывал окружающих скромностью, добротой, вниманием к их нуждам и заботам. Сострадательная любовь не была для него литературным понятием, а самой жизнью. Никогда не прибегал к строгости или законничеству. Таким же правилом веры и образом кротости был он в церковных отношениях, даже в самой натянутой и критической обстановке. Так, в 1934 году Митрополит Антоний написал доброе, дружеское письмо Митрополиту Евлогию, призывая его к примирению. А подумать — сколько накопилось недоразумений, лишних слов, вражды за эти восемь лет болезненного раскола. Тем не менее, оба иерарха встретились в Югославии и всё же временно примирились, прочитав друг над другом разрешительные молитвы. Но какой урок смирения всем нам дал наш Митрополит, несмотря на свою полную правоту, попросив Владыку Евлогия прочитать и над ним разрешительную молитву ! До того велико было его смирение, до того дышал он христианским духом, до того был он чужд всякого чувства самолюбия, что этот шаг ничего ему не стоил, был вполне естественным. Ведь речь шла о мире, о единстве, о Церкви ! Какие личные или законнические соображения могли препятствовать такому радостному выходу из пагубного кризиса ? Вот как и когда проявляется Зарубежный дух …
Вот какая великая во всех отношениях личность была у истока нашей Церкви и простояла во главе её до последнего дня своей земной жизни, восемьдесят лет назад. Блаженнейшего Митрополита Антония можно без всяких преувеличений назвать Учителем Церкви в полном смысле этого слова. Отцы и Учители Церкви принадлежат не временному, но духовному измерению и наш Первосвятитель жил в святоотеческом духовном мiре, жил он со святыми и теперь, как о нём сказал архиманлрит Иустин /Попович/ в своём слове на кончину Митрополита : «Он между Ними». Остаётся только Церкви официально освидетельствовать это, дабы могли мы молиться перед его иконами.
А для нас, для Белой Эмиграции, Митрополит Антоний являет ещё образ пророка. Помним, что человеческий выбор возвёл Митрополита на патриарший престол, но Провидение распорядилось иначе. Вся его миссия в России, связанная с восстановлением патриаршества была завершена, но, как мы уже писали, задача организации Церкви за пределами России требовала истинного столпа Церкви. Митрополит Антоний стал воистину тем новым Моисеем русской православной диаспоры, поставив Русскую Церковь Заграницей на путь канонической и доктринальной истины, на котором она простояла многие десятилетия и может ещё остаться, если только захотим и сумеем оставаться верными её идеалам, её учению, верными наследию Митрополита Антония и прочих гигантов духа, которые процвели на протяжении почти вековой истории Зарубежной Церкви.
* * *
WHY ORTHODOXY AND EVOLUTIONISM ARE INCOMPATIBLE
Dr. Vladimir Moss
Pope Francis has recently declared that he believes in evolutionary theory and the Big Bang."God is not a divine being or a magician," he said to the Pontifical Academy of Sciences, "but the Creator who brought everything to life. Evolution in nature is not inconsistent with the notion of creation, because evolution requires the creation of beings that evolve."
With these words the Pope has completed a process in Roman Catholicism that began at the Second Vatican Council, when the door was opened to all kinds of modernist ideas.[1] Pope John-Paul II took this process a giant step forward by immersing Roman Catholicism in the ecumenical movement, and by declaring that evolution was true as regards the body of man, but not as regards his soul. It appears that Pope Francis has removed even this qualification…
The soul is of course the greatest stumbling-block to any evolutionist theory, however modified and upgraded. According to Orthodoxy, the soul is not made of organic or inorganic matter, was breathed into man’s body by God at the time of his creation, and remains fully functional and immortal after the death of the body. There is no way this teaching can be harmonized with the evolutionist theory accepted by most modern scientists. For how could an immortal soul derive from corruptible matter, rationality from irrationality, freewill from necessity? The answer is: they can’t; for these are incompatible categories.
However, there are several other dogmatic teachings of the Church that are incompatible with evolutionism. Thus evolutionism rests on the idea of chance; but the Holy Fathers from St. Basil the Great to St. Ignaty Brianchaninov all rejected this idea. "Theological evolutionists" try to combine the ideas of chance and Divine creation. But an event is either "caused" by chance or it is caused by God – it cannot be both! Even if "chance" is redefined in terms of probability and conditionality, as some evolutionists try to do, this does not make nature any the less a chance phenomenon. But if we accept that nature came into being by chance, we are denying that "in the beginning God created the heavens and the earth". Creation and chance, however redefined, are incompatible categories.
In order to give their theories even a semblance of plausibility, the theological evolutionists have to make a distinction between an initial act of creation and the later development of that act, its consequences in history. So God produced the Big Bang, they say, but evolution developed the consequences of the Big Bang into the universe we see before us now. This appears to be what the Pope is doing when he says, on the one hand, that God brought everything to life, and on the other, that these creatures then evolved…
In essence, this is simply a variation on the theory of the eighteenth century Deists, who compared the universe to a clock that God creates and winds up, but which he then allows to tick away without any further intervention from Himself. Theoretically, he might interfere occasionally in the form of miraculous events, but in practice the Deists did not believe in miracles… Similarly, while the Pope allows that God caused the Big Bang, he does not see the need for any further miracles – after all, "God is not a magician"…
Deism at least has the virtue of clearly delineating where God’s creativity begins and where it ends: that is, He creates at the very beginning, but abstains thereafter. And theological evolutionists claim support for this view from the fact that, according to Genesis, God rested from His works on the seventh day… However, the Orthodox interpretation of this seventh day is that it signifies God’s ceasing to create any new species. Man, created on the sixth day, is the last stage and crown of His creation, and He did not create anything essentially new thereafter. But this does not mean that He has ceased to create at all, and He maintains and develops what He created in the first six days in accordance with His creative Power and Wisdom; for as the Creator Himself said: "My Father has been working until now, and I have been working" (John 5.17?)
Some idea of creation in the beginning will probably continue to remain on the table of human thought, if only because not even evolutionists can explain how the initial ball of matter that exploded, supposedly, 13.8 billion years ago, came into being, let alone how it produced the vast variety and complexity of the universe, including the Works of Shakespeare and even the Theory of Evolution. For nothing comes from nothing: only God can produce something out of nothing. But what seems common sense to the ordinary human being is anything but to today’s scientists. Thus according to the most famous of contemporary scientists, Stephen Hawking, the universe owes its origin to a chance quantum fluctuation. Thus David Wilkinson, a physicist and Methodist minister, in a book on Stephen Hawking writes that the universe arose by "a chance quantum fluctuation from a state of absolute nothing… Quantum theory deals with events which do not have deterministic causes. By applying quantum theory to the universe, Hawking is saying that the event that triggered the Big Bang did not have a cause. In this way, science is able not only to encompass the laws of evolution but also the initial conditions."[3]
The idea that the whole, vast, infinitely varied universe should come from a chance quantum fluctuation is unbelievable (and certainly undemonstrable). But still more unbelievable is the idea that the quantum fluctuation itself should come out of absolute nothing. For we repeat: nothing comes from nothing. To say that the quantum fluctuation is not deterministically caused is just a play with words that does not resolve the problem. Existing things can owe their existence only to "The One Who Exists" (Exodus 3.14) par excellenceess, Who is "the Beginning of every beginning" (I Chronicles 29.12) and Who said: "Before Abraham was, I AM" (John 8.58)…
*
The introduction of some Scriptural quotations brings us up with the question: to what degree, if at all, is Holy Scripture compatible with evolution?
Now Orthodox Christians – unlike post-Vatican II Roman Catholics and Protestants – have the obligation to interpret Holy Scripture, not in accordance with their own ideas, but strictly in accord with the writings of the Holy Fathers. For, as St. Peter says: "No scripture is of private interpretation" (II Peter 1.20). And as far as the teaching of the Holy Fathers is concerned, Fr. Seraphim Rose in his excellent book, Genesis and the Creation of Man, has clearly demonstrated that their interpretation of the creation story is incompatible with that of the evolutionists, including the theological evolutionists and their pseudo-allegorical interpretations.
Nevertheless, for the sake of those who are not familiar with the patristic interpretation of Genesis, or who are inclined to think that the Holy Fathers were uneducated men who were led astray by their ignorance of science, let us approach the question from a purely commonsensical, logical point of view, without referring to patristic interpretations.
There are several basic problems that any attempt to reconcile Holy Scripture with evolutionism come up against:
(a)Holy Scripture says that "God did not create death" (Wisdom 1.13), that He created all species as "very good" from the beginning and so did not need to keep changing them by means of evolution over billions of years. Death was not there in the beginning, and appeared only as the result of the sin of Adam: "Through one man sin entered the world, and through sin death" (Romans 5.12). So without sin, and without the possibility of the commission of sin by a free, morally responsible man, death would not have appeared (animals cannot sin). Evolutionism, on the other hand, asserts that death was there immediately there appeared organic matter that was capable of dying (for inorganic matter is already dead), and that death was the very engine of evolution insofar as mutation and natural selection are in essence destructive, death-dealing processes. So for Holy Scripture life proceeded from Life, and death intervened only when the man turned away from Life, whereas for evolutionism life proceeded from death, the creation of life from the destruction of life. To the present writer’s knowledge, no attempt to reconcile this contradiction has yet been made that is in the slightest degree plausible. From a commonsensical, logical point of view, it makes much more sense to suppose that life proceeds from Life, rather than that life comes from death…
(b)At a certain point, according to both Holy Scripture and evolutionism, the first fully human man appeared on earth. For Holy Scripture, he was made from clay, water and the inbreathing of God. For the evolutionists, however, he must have appeared through the sexual intercourse of two apes (or Neanderthals). The contradiction is obvious, and cannot be obviated by supposing that the clay and water of the Scriptural account were in fact the embryo of the first man in the womb of his mother. Moreover, for the continuance of the new species, Homo Sapiens, it was necessary, according to the evolutionist account, for both a male and a female of the new species to come into being at the same time and place in order to mate and produce offspring. But, taking into account the fact the creation of a male of the new species requires very many specific genetic changes (mutations), and that the creation of a female of the species equally requires very many specific genetic changes – but different ones, ones that must be complementary to those of the male, the likelihood of this ever happening by chance – that is, all the complementary genetic changes of both the male and the female in one generation – is extraordinarily small. If all these multiple and complementary genetic changes do not take place in one generation, then the reproductive process cannot take place and the species dies out immediately. Moreover, we are talking here only about the very many differences between the sexual reproductive apparatus of the higher apes and man. As we know, there are very many other differences – not least in the size and capacity of the human brain – that distinguish the two species and which have to come into being at the same time and place in both a male and a female of the old species. Generally speaking, sexuality is one of the most powerful arguments against evolutionism. By comparison, the Scriptural account of the creation of Eve from Adam by parthenogenesis (a process found in other animal species) looks much simpler and more plausible.
(c) The difficulties of harmonizing the Scriptural account of the creation of man with the evolutionist account are so great that most theological evolutionists abandon the idea that Adam and Eve were specific people. However, it is clear from the Scriptures that Christ, St. Paul and St. John all believed in Adam and Eve as real people and not as abstractions for male and female humanity. The question then becomes a question of authority: whose authority is greater: that of Christ and the Apostles, or that of Darwin and his followers? For a Christian who believes that Christ is none other than the Way, the Truth and the Life, God incarnate, there is only one possible answer. To think that Christ could be mistaken about anything whatsoever is equivalent to rejecting Christianity altogether…
(d)If Adam and Eve were not real people, as most theological evolutionists are forced to conclude, then the further question arises: when did the roll-call of names in the genealogy of Luke 3, for example, cease to refer to abstractions or fictions and begin to refer to real people? With Noah? Or Abraham? Or Moses? But again, the Lord, the Truth incarnate, referred to Noah, Abraham and Moses as real people. And the Apostles John and Jude referred to Cain and Abel, and to Enoch, as real people… It seems that the evolutionist who does not reject the early chapters of Genesis or Luke 3 as no more than an instructive fairy-tale has to draw an entirely arbitrary line beyond which symbols and abstractions suddenly became real people…
(e)The case of Noah and the universal flood of his time – confirmed as fact by the Lord and the Apostle Peter – is especially critical, because the existence of the flood provides a much simpler and more comprehensive account of the fossil evidence than does Darwinism. Moreover, the plausibility of Darwinism rests on the assumption of uniformitarianism, that is, on the idea that no universal, cataclysmic events like the flood have taken place since the earth was formed. For if such events did occur, then the dating methods the evolutionists use to date the fossils have to be discarded, since they rest on uniformitarian assumptions… But St. Nektary of Optina (+1928) pointed out that fossils had been found on the tops of the mountains, which appears to presuppose the existence of a universal flood that deposited them there. And creationist scientists in our time have pointed to a mass of evidence from various scientific disciplines that confirms the historicity of the flood.
*
But let us return to the greatest stumbling block to evolution, the soul, and to those attributes of the soul that make it wholly incommensurable with anything in the material created universe: rationality, freedom and morality. It is these attributes above all that are referred to by the Holy Spirit when He says that God created man "in His own image" (Genesis 1.26). For only God, being completely beyond space, time and matter, can be said to be truly rational, free and good; and man is said to be made in His image precisely because he, unlike the rest of material creation, partakes in these truly Divine attributes.
It was the implicit denial of the rational, free and moralizing soul that particularly shocked the early critics of Darwinism. For as Darwinism rapidly evolved from a purely biological theory of origins into universal evolutionism going back to what scientists now call the Big Bang, the image of man that emerged was not simply animalian but completely material: man was made in the image, not of God, but of dead matter. Moreover, evolutionism turned out to be a "new" explanation of the origins of the universe that was in fact very old and very pagan. For "all things were made" now, not by God the Word ("the Word" or "Logos" here can also be translated as "Reason"), but by blind mutation and "natural selection" (i.e. death). These were the two hands of original Chaos, the father of all things - a conception as old as the pre-Socratic philosophers Anaximander and Heraclitus and as retrogressive as the pre-Christian religions of Egypt and Babylon.
Darwin’s idea of species evolving into and from each other also recalls the Hindu idea of reincarnation. A more likely contemporary influence, however, was Schopenhauer’s philosophy of Will. For both Schopenhauer and Darwin the blind, selfish Will to live was everything; for both there was neither intelligent design nor selfless love, but only the struggle to survive; for both the best that mankind could hope for was not Paradise but a kind of Buddhist nirvana.
Schopenhauer in metaphysics, Darwin in science, and Marx in political theory formed a kind of unholy consubstantial trinity, whose essence was Will.[4] Marx liked Darwinism because it appeared to justify the idea of class struggle as the fundamental mechanism of human evolution. "The idea of class struggle logically flows from 'the law of the struggle for existence'. It is precisely by this law that Marxism explains the emergence of classes and their struggle, whence logically proceeds the idea of the dictatorship of the proletariat. Instead of racist pre-eminence class pre-eminence is preached."[5]
However, Darwinism was also congenial to Marxism because of its blind historicism and implicit atheism. As Richard Wurmbrand notes: "After Marx had read The Origin of Species by Charles Darwin, he wrote a letter to Lassalle in which he exults that God - in the natural sciences at least - had been given 'the death blow'".[6] "Karl Marx," writes Hieromonk Damascene, "was a devout Darwinist, who in Das Kapital called Darwin's theory 'epoch making'. He believed his reductionist, materialistic theories of the evolution of social organization to be deducible from Darwin's discoveries, and thus proposed to dedicate Das Kapital to Darwin. The funeral oration over Marx's body, delivered by Engels, stressed the evolutionary basis of communism: 'Just as Darwin discovered the law of evolution in organic nature, so Marx discovered the law of evolution in human history.'"[7]
"The years after 1870," writes Gareth Stedman Jones, "were dominated by the prestige of the natural sciences, especially that of Darwin. Playing to these preoccupations, Engels presented Marx's work, not as a theory of communism or as a study of capitalism, but as the foundation of a parallel 'science of historical materialism'. Socialism had made a transition from 'utopia' to 'science'"...[8]
Not only Marxism, but also its ideological rival, capitalism, found support in Darwinism. For Darwinism can be seen as the application of the principles of capitalist competition to nature. Thus Bertrand Russell writes: "Darwinism was an application to the whole of animal and vegetable life of Malthus's theory of population, which was an integral part of the politics and economics of the Benthamites - a global free competition, in which victory went to the animals that most resembled successful capitalists. Darwin himself was influenced by Malthus, and was in general sympathy with the Philosophical Radicals. There was, however, a great difference between the competition admired by orthodox economists and the struggle for existence which Darwin proclaimed as the motive force of evolution. 'Free competition,' in orthodox economics, is a very artificial conception, hedged in by legal restrictions. You may undersell a competitor, but you must not murder him. You must not use the armed forces of the State to help you to get the better of foreign manufacturers. Those who have the good fortune to possess capital must not seek to improve their lot by revolution. 'Free competition', as understood by the Benthamites, was by no means really free.
"Darwinian competition was not of this limited sort; there were no rules against hitting below the belt. The framework of law does not exist among animals, nor is war excluded as a competitive method. The use of the State to secure victory in competition was against the rules as conceived by the Benthamites, but could not be excluded from the Darwinian struggle. In fact, though Darwin himself was a Liberal, and though Nietzsche never mentions him except with contempt, Darwin's 'Survival of the Fittest' led, when thoroughly assimilated, to something much more like Nietzsche's philosophy than like Bentham's. These developments, however, belong to a later period, since Darwin's Origin of Species was published in 1859, and its political implications were not at first perceived…"[9]
And yet the repulsive moral implications of Darwin’s theory were obvious to contemporary Orthodox saints. For example, St. Barsanuphius of Optina: "The English philosopher Darwin created an entire system according to which life is a struggle for existence, a struggle of the strong against the weak, where those that are conquered are doomed to destruction and the conquerors are triumphant. This is already the beginning of a bestial philosophy…"[10]
Again, St. Nectarios of Aegina wrote in 1885: "The followers of pithecogeny [the derivation of man from the apes] are ignorant of man and of his lofty destiny, because they have denied him his soul and Divine revelation. They have rejected the Spirit, and the Spirit has abandoned them. They withdrew from God, and God withdrew from them; for, thinking they were wise, they became fools… If they had acted with knowledge, they would not have lowered themselves so much, nor would they have taken pride in tracing the origin of the human race to the most shameless of animals. Rightly did the Prophet say of them: ‘Man being in honour, did not understand; he is compared to the dumb beasts, and is become like unto them."[11]
As for the political implications of Darwin's book, they are obvious from its full title: On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the struggle for life. Darwin did not mean by "races" races of men, but species of animals. However, the inference was easily drawn that certain races of men are more "favoured" than others; and this inference was still more easily drawn after the publication of The Descent of Man in 1871. Very soon different races or classes or groups of men were being viewed as if they were different species. "Applied to politics," writes Jacques Barzun, "[Darwinism] bred the doctrine that nations and other social groups struggle endlessly in order that the fittest shall survive. So attractive was this 'principle' that it got the name of Social Darwinism."[12] Thus Social Darwinism may be defined as the idea that "human affairs are a jungle in which only the fittest of nations, classes, or individuals will survive".[13]
Social Darwinism leads to the conclusion that certain races are congenitally superior to others. "Only congenital characteristics are inherited," writes Russell, "apart from certain not very important exceptions. Thus the congenital differences between men acquire fundamental importance." [14] As Fr. Timothy Alferov writes: "The ideas of racial pre-eminence - racism, Hitlerism - come from the Darwinist teaching on the origin of the races and their unequal significance. The law of the struggle for existence supposedly obliges the strong races to exert a strong dominance over the other races, to the extent of destroying the latter. It is not necessary to describe here the incarnation of these ideas in life in the example of Hitlerism, but it is worth noting that Hitler greatly venerated Darwin."[15]
However, while appearing to widen the differences between races of men, Social Darwinism also reduces them between men and other species - with some startling consequences. Thus Russell writes: "If men and animals have a common ancestry, and if men developed by such slow stages that there were creatures which we should not know whether to classify as human or not, the question arises: at what stage in evolution did men, or their semi-human ancestors, begin to be all equal? Would Pithecanthropus erectus, if he had been properly educated, have done work as good as Newton's? Would the Piltdown Men have written Shakespeare's poetry if there had been anybody to convict him of poaching? A resolute egalitarian who answers these questions in the affirmative will find himself forced to regard apes as the equals of human beings. And why stop at apes? I do not see how he is to resist an argument in favour of Votes for Oysters. An adherent of evolution should maintain that not only the doctrine of the equality of all men, but also that of the rights of man, must be condemned as unbiological, since it makes too emphatic a distinction between men and other animals."[16]
Arthur Balfour, who became British Prime Minister in 1902, described the world-view that universal evolutionism proclaimed as follows: "A man - so far as natural science is able to teach us, is no longer the final cause of the universe, the Heaven-descended heir of all the ages. His very existence is an accident, his story a brief and transitory episode in the life of one of the meanest of the planets. Of the combination of causes which first converted a dead organic compound into the living progenitors of humanity, science indeed, as yet knows nothing. It is enough that from such beginnings famine, disease, and mutual slaughter, fit nurses of the future lords of creation, have gradually evolved after infinite travail, a race with conscience enough to feel that it is vile, and intelligent enough to know that it is insignificant. We survey the past, and see that its history is of blood and tears, of helpless blundering, of wild revolt, of stupid acquiescence, of empty aspirations. We sound the future, and learn that after a period, long compared with the individual life, but short indeed compared with the divisions of time open to our investigation, the energies of our system will decay, the glory of the sun will be dimmed, and the earth, tideless and inert, will no longer tolerate the race which has for a moment disturbed its solitude. Man will go down into the pit, and all his thoughts will perish…"[17]
A truly melancholy philosophy – but fortunately there is no reason to believe in it. C.S. Lewis wrote: "By universal evolutionism I mean the belief that the very formula of universal process is from imperfect to perfect, from small beginnings to great endings, from the rudimentary to the elaborate, the belief which makes people find it natural to think that morality springs from savage taboos, adult sentiment from infantile sexual maladjustments, thought from instinct, mind from matter, organic from inorganic, cosmos from chaos. This is perhaps the deepest habit of mind in the contemporary world. It seems to me immensely implausible, because it makes the general course of nature so very unlike those parts of nature we can observe. You remember the old puzzle as to whether the owl came from the egg or the egg from the owl. The modern acquiescence in universal evolutionism is a kind of optical illusion, produced by attending exclusively to the owl's emergence from the egg. We are taught from childhood to notice how the perfect oak grows from the acorn and to forget that the acorn itself was dropped by a perfect oak. We are reminded constantly that the adult human being was an embryo, never that the life of the embryo came from two adult human beings. We love to notice that the express engine of today is the descendant of the 'Rocket'; we do not equally remember that the 'Rocket' springs not from some even more rudimentary engine, but from something much more perfect and complicated than itself - namely, a man of genius. The obviousness or naturalness which most people seem to find in the idea of emergent evolution thus seems to be a pure hallucination…"[18]
*
So: "immensely implausible" and "pure hallucination" was the verdict of this most gifted and learned of Western Christian writers on evolutionism, a verdict shared today by increasing numbers of scientists from various disciplines… And yet the great majority of contemporary mankind, including most Christians and most scientists, still believes in this foundation myth of our age. In searching for an explanation of this fact, we should remember the words of the Lord: "If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God" (John 7.17). In other words, truth is given to those who practice the good as far as they are able. "For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed" (John 3.20).
And if it be objected that these words cannot be applied to many evolutionists, who are very moral and honourable people, then it should be remembered that even such "respectable" sins as conformism and wanting to be honoured by others is sufficient to alienate us from the truth. For "how can you believe, who receive honour from one another and do not seek the honour that comes from the only God?" (John 5.44). For why is it that the vast majority of men, even the most intelligent, accept the prevailing belief-system of their age, even when its falsehood is so evident to succeeding generations? Because they "receive honour from one another", and fear to lose that honour (and perhaps also positions and salaries) if they depart from the prevailing consensus, or look too closely into its shaky foundations. For most men are like the parents of the blind man whom Christ healed, "who said these things because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that He was the Christ he would be put out of the synagogue" (John 9.22).
The synagogue of those who hold the prevailing belief-system is extremely powerful in any age, not least in our own, which, while seeming to honour freedom, creativity and non-conformism, actually restricts them within very definite limits. Nor is it necessary to imprison or physically abuse non-conformists in order to bring them into line. Thus those who believe that homosexuality is immoral and unnatural (which is obvious) are considered to be haters of men, lacking in compassion, bigots. And those who reject evolution are considered to be unintelligent, flat-earthers, "behind the times", "unscientific", even enemies of progress. In practice we see that very few are able to resist such social pressures.
Which brings us to the fundamental reason why evolutionists accept the lie: "because they did not receive the love of the truth, that they might be saved". It is because of this lack of love of the truth above all that God "sends them a strong delusion, that they should believe the lie" (II Thessalonians 2.10-11). For in the last resort those who do not believe in God the Creator are, as St. Paul says, "without excuse" (Romans 1.20).
So how are we to classify the false teaching of evolutionism, bearing in mind that it is not only atheists who believe in it, but also Christians, and even those who call themselves Orthodox Christians? The best answer would seem to be: as a form of scientism, that is, the belief that certain knowledge of the most important truths is attainable only through science, and not through the Word of God. And scientism in turn is a form of rationalism, that is, the belief that human reasoning is a surer method of reaching truth than Divine Revelation…
People are impressed – overawed would perhaps be a better word – by the fact that science, alone among major human activities, appears always to be making progress. This is not to say that scientists never make mistakes but that in the end science will always, perhaps after a period of meandering along dark, misleading paths, drag itself out of error and bring us onto the sunlit uplands of truth. In other words, individual scientists and scientific hypotheses may be wrong, but the scientific project as such is never wrong: on the contrary, it is the only sure path to truth. Science, it is granted condescendingly, cannot provide certain emotional satisfactions, such as knowing the meaning of life: for these, it is better to resort to other activities such as religion or art. But the implication is that these other activities are not actually concerned with objective truth: for that there is no substitute for science; it alone can tell us what life and the universe is, was and shall be.
The basic problem with what we can call the heresy of scientism is that it defines objective reality as exclusively that which can be studied by empirical scientific method. And since scientific method can study only visible objects existing in space and time, this by definition precludes from the realm of objective reality not only invisible things, such as God, angels and the soul, but also things that cannot be located in space and time, such as love. Now the early theorists of science, such as Francis Bacon, and the greatest scientists of the spring-time of science, such as Isaac Newton, accepted the existence of these things while at the same time accepting that they were not objects for scientific research. That is why, as recent research has shown, Newton spent as much time on the study of the Bible, especially the prophetic books, as he did on pure science. But later science became increasingly scientistic, as opposed to strictly scientific; that is, it decided – completely arbitrarily – that that which cannot be investigated by science ipso facto does not exist…
Scientific method is also restricted to the study only of those events which are – in principle, at any rate – repeatable; for hypotheses are tested through experimentation, and experimentation must be replicable. But this again precludes from the realm of objective reality such unreplicable events as the beginning of the world… Scientism, however, refuses to be so restricted, and universal evolutionism is therefore not science in the strict sense of the word, but metaphysical speculation…Even that more down-to-earth part of the theory that we call Darwinism is virtually metaphysical. For while mutations and the emergence of species are in principle visible and repeatable events, nobody has yet witnessed a single such an event, whether in the wild or in a laboratory!
Again, scientific method proceeds through the discovery of scientific laws and conducts its experiments on the assumption that some explanation of any phenomenon that is being studied can eventually be found within the context of already discovered or still-to-be-discovered laws of nature. There is nothing wrong with such an assumption for particular cases, and it has, of course, proved very fruitful in stimulating the progress of science. Scientism, however, goes further and declares with complete generality that everything that happened in the past, that is happening now and will happen in the future can be explained by the laws of nature. In other words, miracles, the irruption into our world of space, time and matter of forces from another realm, are impossible. However, as C.S. Lewis proved conclusively in his great book Miracles, this again is a metaphysical assumption that cannot be proved from the nature of science itself.
The fact is, as Horatio said to Hamlet, there are more things in heaven and earth than are dreamed of in the rationalist philosophy of scientism… Science has indeed made great progress as long as it has stayed within its proper bounds and remained faithful to the principles of empiricism. But as soon as it has strayed beyond the bounds of empirical science and entered the realm of metaphysics, as in the theory of evolution, it has gone badly astray, becoming "half-science" as Dostoyevsky called it in his novel, The Devils. In our time, this has led to the construction of a huge quasi-religious myth encompassing the whole history of the universe from beginning to end which, apart from contradicting established scientific fact in very many particulars, also contradicts the only reliable source of knowledge we have for these matters – the Revelation of God. So let us return in humility to His Word as spoken through the wise Solomon: "We can hardly guess at what is on earth, and what is at hand we find with labour; but who has traced out what is in the heavens, and who has learned Thy counsel, unless Thou give him wisdom, and send Thy Holy Spirit from on high?" (Wisdom 9.17)
[1] According to one source (http://time.com/3545844/pope-francis-evolution-creationism), the process goes still further back, to Pope Pius XII’s 1950 encyclical "Humani Generis". However, real change in the consciousness of ordinary Catholics only began after Vatican II.
[3] Wilkinson, God, Time and Stephen Hawking, London: Monarch Books, 2001, p. 104.
[4]Marx's task was "to convert the 'Will' of German philosophy and this abstraction into a force in the practical world" (A.N. Wilson, After the Victorians, London: Hutchinson, 2005, p. 126).
[5]Fr. Timothy Alferov, Pravoslavnoe Mirovozzrenie i Sovremennoe Estestvoznanie (The Orthodox World-View and the Contemporary Science of Nature), Moscow: "Palomnik", 1998, p. 158.
[6]Wurmbrand, Was Karl Marx a Satanist?, Diane Books (USA), 1976, p. 44.
[7]Hieromonk Damascene, in Fr. Seraphim Rose, Genesis, Creation and Early Man, Platina, Ca.: St. Herman of Alaska Press, 2000, p. 339, note.
[8]Gareth Jones, "The Routes of Revolution", BBC History Magazine, vol. 3 (6), June, 2002, p. 36.
[9] Russell, A History of Western Philosophy, London: George Allen and Unwin, 1946, pp. 807-808
[10] Victor Afanasyev, Elder Barsanuphius of Optina, Platina: St. Herman of Alaska Brotherhood, 2000, p. 488.
[11] St. Nectarios, Sketch concerning Man, Athens, 1885.
[12] Barzun, From Dawn to Decadence, 1500 to the Present, New York: Perennial, 2000, pp. 571-572.
[13] Norman Davies, Europe, London: Pimlico, 1997, p. 794.
[14] Russell, op. cit., p. 753.
[15] Alferov, Pravoslavnoe Mirovozzrenie i Sovremennoe Estesvoznanie (The Orthodox World-View and the Contemporary Science of Nature), Moscow: "Palomnik", 1998, pp. 157-158.
[16] Russell, op. cit., p. 753. A British television programme once seriously debated the question whether apes should have the same rights as human beings, and came to a positive conclusion... See Joanna Bourke, What it Means to be Human, London: Virago, 2011.
[17]Balfour, The Foundations of Belief, 1895, pp. 30-31; in Wilson, The Victorians, London: Hutchinson, 2002, p. 557.
[18]Lewis, "Is Theology Poetry?", in The Weight of Glory and Other Addresses, New York: Macmillan, 1949.
* * *
НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
Светлана Светлова-Ягодина
О
, мой Небесный Покровитель,
* * *
О ГЕРОЯХ И ПРЕДАТЕЛЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
К 75-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО КОРПУСА НА БАЛКАНАХ 12 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА
Николай Казанцев
В путинской Эрефии пропагандная кампания по возвеличению Сталина, как героя-победителя Второй Мировой войны, не снижает обороты. И одним из её элементов является очередная попытка очернить, ошельмовать "предателями" русских патриотов, в те годы с оружием в руках сражавшихся против Советской Армии – воинов
Русского Корпуса на Балканах, Российской Освободительной Армии генерала Власова, казачьих формирований Краснова и Шкуро и других антибольшевицких воинских частей.В последние годы считанные книги, как например труды бывшего городского головы Москвы Гавриила Попова и священника Георгия Митрофанова, попытались донести до общественного сознания правду о том, что так называемые "коллаборационисты" были вовсе не предателями. Они были "утилизационистами", пытались утилизировать, использовать немцев для освобождения России от страшной тирании коммунизма. И являлись третьей силой в войне. Более того, они были истинными героями, которые в невозможной ситуации, между молотом и наковальней, оставались верными делу свободы России до конца.
В пропагандной кампании, поющей дифирамбы сталинским генералам и имеющей целью опорочить генералов-антикоммунистов, играет роль и верхушка Московской Патриархии. Так, знаменитому "духовнику" Путина, Тихону (Шевкунову) принадлежит определение: «Пока дети в России, угадывая имя героя войны, будут называть генерала Карбышева, а не генерала Власова, у нашей страны есть будущее». Будущее-то советское…
Апология сталинской "Победы" – это не история, а «историческая политика», и никакого отношения к поискам исторической правды она не имеет. Дальше искажая прошлое, путинская историография лишает страну возможности иметь русское будущее. Потому что сегодняшняя Эрефия – это продолжение СССР, а не Россия.
Белые добровольцы 1941-1945 гг. были героями, а их действия – подвигом, поступком истинного патриота. Они приняли труднейшее решение: параллельно с внешним врагом сражаться за свободу и счастье своего народа, с твёрдым решением впоследствии избавить его и от нацистов. Они знали, на что шли. Они были нравственными людьми, не искали своей выгоды. Готовы были оказаться не понятыми современниками, но интересы страдающего народа и государства российского ставили выше своей собственной судьбы. Не красноармейцы, изнасиловавшие в побеждённой Германии два миллиона немецких женщин в возрасте от 8 до 80 лет, а корпусники, власовцы, красновцы являются подлинными героями войны, на подвигах которых должно воспитывать молодое русское поколение.
Надо подняться до понимания той конкретной исторической ситуации в которой оказались белые в 1941-1945 годах, и не орудовать сегодняшними предвзятостями, опрокинутыми в прошлое. А некоторые историки Эрефии делают именно это, нечестно и ненаучно прибегая к двойным стандартам. Для некоторых из них белые, бившие красных, хороши только до 1920 года. Однако те же белые, бившие тех же красных, но уже после 41-го года – вдруг становятся исчадиями ада.
Они не понимают, - или, скорее, делают вид, что не понимают, - простой, самоочевидный факт: в 1941 году белые лишь продолжили Гражданскую войну, начавшуюся в 17-ом. То есть – остались верными себе и России. По лукавомум построению таких горе-историков, после 41-го года нельзя было проливать кровь солдат защищавших советскую власть, а до 1920 – можно было.
Война на Восточном Фронте – это сватка двух тиранов, двух тоталитарных режимов. Тиран боролся с тираном, зло сражалось со злом. Порабощённый русский народ оказался перед тяжёлым выбором «меньшего зла». Никто не вправе сейчас осуждать тех, кто предпочёл Сталину – временное использование немцев. Не имея иллюзий о природе обоих режимов, они предприняли отчаянную попытку стать третьей силой в этом конфликте, превратить столкновение двух тиранов на территории России во Вторую Гражданскую войну против большевизма. Они не смогли победить, империя зла одних уничтожила, а другим пришлось ре-эмигрировать в ещё более дальние страны. Однако память о патриотах, боровшихся за свободу, не сможет уничтожить ложь советского агитпропа.
Как писал священник Г. Митрофанов о Гитлере и Сталине, это были братья-близнецы, победа любого из них означала «очередное поражение русского народа». И был прав Гавриил Попов, когда объявил генерала Власова предтечей новой, свободной России и предложил поставить ему памятник.
Если признать коммунистические репрессии и отсутствие свободы в СССР, - раскулачивание, расказачивание, 37-й год и далее, - и соглашаться, что война на Востоке была столкновением тиранов, то неизбежно признать оправданным сопротивление сталинизму и советскому тоталитаризму. Надо осознать неоднозначность того времени и тогда прояснится невозможность его «чёрно-белого» восприятия. Разумеется, мы не отрицаем преступления нацизма, как и решения трибунала в Нюрнберге. Напротив, мы предлагаем провести второй Нюрнберг, - над коммунизмом.
Нынешняя власть в Эрефии хочет чтобы население закрыло глаза на реальную историю. Чтобы думало, что происходившее под властью КПСС было прекрасно и разумно, а кто с этим не согласен – тот скрытый или явный фальсификатор. Только общество, утратившее нравственные ориентиры, может вникать в доводы апологетов тирана Сталина. Сам факт необходимости спорить по этим вопросам – уже диагноз.
Однако логика адвокатов сталинской "Победы" неопровержима только если мы согласимся вести дискуссию в рамках их абсолютно антинаучной, но эффективной в пропагандном плане системы координат. Схемам просоветских фальсификаторов мы противопоставляем принципиально иное видение истории, при котором все их построения разбиваются, как горох об стену, ибо это видение основано на исторической правде.
Путинской исторической лжи мы открыто и последовательно противопоставляем правду о войне. Нам, в отличие от апологетов Сталина, не нужно переписывать историю, фальсифицировать её смысл.
Русские добровольцы-антикоммунисты 1941-1945 годов вели войну за существование (в прямом, физическом смысле слова) России и русского народа. Победа белых во Второй Мировой войне, если удалось бы использовать немцев, – означала бы жизнь для русского народа, возможность его свободного и независимого развития. Корпусники, власовцы, казаки не добились своей цели. Коммунисты остались управлять страной ещё несколько десятилетиий и… вконец её обескровили, подорвали её генофонд настолько, что русский народ вымирает. Соответственно, все построения апологетов сталинской "Победы" рассыпаются, как карточный домик. Предатели те, - коммунисты, - кто уничтожили тысячелетнюю державу. Герои те, - белые добровольцы, - кто пытались её спасти в годы Второй Мировой.
* * *
ПРИСЯГА
* * *
THE FALL OF THE SERBIAN AND BULGARIAN CHURCHES Dr. Vladimir MossAfter 1945 the struggle to keep the Orthodox Church free from Communist control continued for a few years. But it eventually failed…
According to a report dated October 18, 1961 and prepared by the United States Senate’s Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, in 1950, on the death of Patriarch Gabriel of Serbia, the Communists "made certain that the new patriarch would be a ‘cooperative’ one, and forced the election of a weak man, Bishop Vikentije Prodanov, who became a manageable tool of communist propaganda."[1] He was elected patriarch, as Hieroscheamonk Akakije writes, "with heavy pressure from the secret police" and "by one episcopal vote only. Even though he was very obedient to the authorities, the newly chosen Patriarch Vikentije resisted some of Tito’s plans, for example, the forming of the Macedonian Church. So he didn’t last long on the patriarchal throne. He died eight years later.
"After Vikentije, the communists needed a completely loyal person, who would bring the Serbian Church in service to the atheist regime. Such a candidate they found in the person of the widowed priest Chranislav Djorič, who became a monk with the name German and in 1951 became Vikentije’s vicar-bishop. In the campaign electing German as patriarch, the communist regime did not hide its active participation. All the memories of the electing council were very thoroughly worked upon by the secret police. The boss of the Serbian secret police Milan Velić openly said to the members of the electoral council: ‘We want German to be chosen, and he will be chosen, whether you vote for him or not. We want in the person of the patriarch to have a safe and sound friend, and with Vikentije we were too credulous.’ Everyone received an envelope with money. One of the examples of various blackmailing and threats was Abbot Platon Milevoyević of Studenitsa, to whom the bloody boss of the Belgrade secret police, Miloš Minić, came with one associate and told him he would be arrested for public immorality and misuse of money in selling the monastery’s woods unless he voted for German. The secret police claimed that they had all the proofs of all his weaknesses, having mistresses in the monastery, several children born outside wedlock, and so on." [2]
"Father Macarius, abbot of the famed Dechani Monastery, was given 200,000 dinars ($650) as payment for his coerced vote for Germanus. He came back to his monastery after the election and threw the money at his monks, telling them that he ‘felt like Judas’.
"Many delegates to the Electorate were given a special pen and paper on which they were to cast their ballots, in order to show whether they had kept their promise to the agents of the Secret Police. (Two sworn statements by witnesses)."[3]
According to witnesses in the patriarch’s house, he had a party card. And when he was once accused of embezzling a very large sum of money and was threatened with a court trial, the Serbian equivalent of the KGB (UDBA) saved him and paid the money themselves. Thereafter he was completely "their man".[4] The Belgrade newspaper Telegraf recently confirmed that German was elected by UDBA.[5]
As Archimandrite Justin Popovich wrote in 1960: "… The atheist dictatorship has so far elected two patriarchs… And in this way it has cynically trampled on the holy rights of the Church, and thereby also on the holy dogmas."[6]
In this period, the communists tried to break down the resistance of all those bishops who opposed them. In most cases they succeeded. But there were some exceptions. For example: "The Bishops’ quarters in Novi Sad, in which Bishop Irenaeus (Tsilits) of Bachka lived, became the target of ‘national rage’ – communist demonstrations that threw a large number of stones at the building with terrible exclamations. During a festal litia in 1946 in one village, when the bishop came out from the church in full vestments, the organized communist crowd threw a number of stones at him. Being hit on the back of his head, Bishop Irenaeus fell on the ground. The raging crowd attacked the bishop, and the priest who was trying to defend him was stabbed by knives. Severely hurt, all covered in blood, his beard pulled out, his vestments torn, spat upon and insulted, Bishop Irenaeus was taken to Novi Sad during the night. As a consequence of these heavy wounds, he spent the rest of his life mostly in his sickbed.
"Metropolitan Nectarius was lynched by the communists. In August 1953 a group of about 150-250 communists (including some women) arrived unexpectedly in the monastery of Osren. They forced their way into the monastery guest-house, and uttering terrible words they came to the bishop’s cell, where they started to hit and push him until he fell to the ground. One of the women was pulling his beard. The calls for help of an old bishop, who was at that time 75 years old, were heard by nobody. They kept on tearing his ryasa, pushing and torturing him. Heavily wounded, he had to leave Tuzla, and go to Belgrade, where he lay in hospital for several months. Metropolitan Nectarius was the spine of the resistance to the communists in the Serbian Orthodox Church. Before the election of German as patriarch, the president of the socialist republic of Bosnia and Herzegovina – his name was Djuro Putsar, his nickname was "the old one" – said to Metropolitan Nectarius and Bishop Basil: ‘The two of you represent 80% of the Council, and if German is not elected, we know who is responsible.’ Metropolitan Nectarius called patriarch German ‘Judas’ son’.
"In 1944 Metropolitan Arsenije was condemned in Cetinje by the national court to ten-and-a-half years’ hard labour for anti-state activities because he did not carry out various requests made by the communists and because he said in his sermons that the Catholic Church did very evil things to Orthodox people. Together with him, seven old Montenegrin priests were condemned too. In 1960, due to serious illness, he was released at the age of 77. Rejected by all, his last days were spent with his daughter and son-in-law. He reposed, humiliated and persecuted by Patriarch German, whom he cursed on the last day of his life. Up to his last hour he rejected the communists and German. Even on his deathbed, the communists asked him to sign a statement by which he approved of the official policy of Patriarch German. Under the pressure of the communists, his funeral was conducted in secret.
"Bishop Vasilije was forced to leave Banja Luka by the communists. At his question whether there was any written document by the state authorities about his ban from Banja Luka, the communists answered: ‘The people does not give written decisions, and it does not make any such decisions. The people has the right to make such decisions, because it is above the authorities, and each authority originates from the people.’ After constant threats to lynch him, he decided to leave for Belgrade. On his way to the railway station, a lot of men and women ran after him, shouting: ‘You wanted it written, here it is written, you will get it from the people, who are waiting for you. Down with the bearded man! Down with the people’s enemies and the collaborators of the occupiers!’ One of them attacked the car and started to curse God. When the bishop had hardly reached the station, an even larger mass of people were waiting for him there. They started to throw tomatoes and stones at him, and when they had surrounded him completely they started to spit at him, pull his beard and hit his head and body. The police was present all the time, but did not react to this public violence. One communist sub-officer kept on getting close to his face, and saying: ‘We are materialists, we only believe in matter, and not in the immortality of the soul, as you priests teach. Confess that it is senseless. You collaborated with the occupiers, and you don’t want to collaborate with today’s authorities. That is why people are making you leave. Confess that you were wrong, and repent.’ He was so badly hurt that he twice fell on the ground. Then they dragged him over the railway line and tore his sleeveless coat and his mandiya. In the train all the passengers kept on insulting him, and as he sat by the window it was broken from the outside. The reason for this lynching was his resistance to compromise with the godless authorities. Still, he couldn’t withstand the communist tortures to the end, and under UDBA pressure he gave his support to Bishop German as candidate for patriarch.
"Bishop Varnava (Nastić) was condemned in 1948 by a communist court to ten years’ hard labour for the ‘crime of treason: he helped to weaken the economy and the military power of the state, he helped terrorist bands, he published enemy propaganda, and he was a spy for the Anglo-Americans.’ He suffered his punishment in Zenitsa jail. All the time he was in total isolation in a dark and damp cell under the greatest affliction of soul and body. The communists immediately cut his hair off and shaved his beard to humiliate him and make him a laughing-stock. They made him dothe hardest jobs because they knew he was physically sensitive and weak in health. They starved him of food and water, tortured him with loneliness and deprived him of information from books or newspapers, with no communication with the outer world, just in order to break down his morale and subject him to their godless commands. In reply to all those tortures, he chanted church songs in his cell. Since no torture could break his spirit, the spirit of Bishop Varnava, the UDBA planned his so-called transfer in 1949 and arranged a traffic accident by crashing a locomotive into a parked, locked railway car in which he and a number of other political prisoners were bound. The impact was so powerful that out of a full car only eleven prisoners survived. Bishop Varnava was thrown through the window while tied together with a Catholic priest who died immediately as they fell. Bishop Varnava stayed alive, but both legs and one arm were broken. People from the train station and other trains ran to help, but police surrounded the car and would not allow anyone to come close to the wounded, and one policeman even turned an automatic gun against the people. One hour later, the UDBA came and took all the wounded to the city hospital nearby, where the doctors immediately started to help. Suddenly an UDBA man came back to the hospital and ordered the doctors to stop helping the wounded and to take them off the operating tables. The protests of the doctors were not considered. Bishop Varnava at that moment was on the operating table with a hole in his heel where a metal rod was to be inserted to help his broken leg heal. All the wounded were put in an army truck on wooden planks and they were driven at a horrific speed over very bad roads, so that two of them died during the trip. In 1960, after several transfers, from one prison to another, where he became severely ill, the much-suffering Bishop Varnava came to the end of his term of punishment. At that moment he submitted a plea to the Synod of the Serbian Orthodox Church to be reactivated. Patriarch German did not take his plea before the Synod, but sent him a message: ‘It is necessary that you first regulate your relationship with the authorities’, which practically meant that he had to give a statement of loyalty to the communist regime. From that time the UDBA started to pressure him again. The boss of the religious section of the UDBA Milan Velić sent him a letter signed by about ten hierarchs recommending that he sign the statement of loyalty to the authorities and request that the Holy Synod retire him. Velić brought him the prepared text of his statement, a very cunning document prepared by Bishop Vissarion Kostić in which, among other things, they asked him to praise Tito’s regime, be one with the official position of the Church and to fence himself off from the work of the emigration. When he strongly resisted, the UDBA officer told him: ‘That means you are condemning Patriarch German and the other bishops who have already given such statements.’ Bishop Varnava said: ‘Everybody shall answer before the Last Judgement for his deeds on earth.’ Then the UDBA officer said: ‘You think Patriarch German will answer before the Last Judgement?’ Bishop Varnava answered: ‘The first and the hardest!’
"When Patriarch Vikentije went to Moscow and laid flowers at the tomb of Lenin, Bishop Varnava under his full signature from prison sent a letter saying: ‘In whose name did you go, who did you represent, and who authorised you to put the flowers on the tomb of Lenin? From that wreath that you laid on Lenin’s tomb, take off one leaf in the name of the Serbian priesthood, one leaf in the name of Serbian bishops , one leaf in the name of the Serbian people, and the remaining six leaves will represent you and the members of your delegation.’ Because of this letter, the Hierarchical Synod gathered and pronounced him irresponsible and irrational. That was when his real spiritual torments began, because his brother hierarchs became his enemies. The notorious Bishop Vissarion led the systematic action against Bishop Varnava, who often used to say: ‘Being imprisoned by the communists was sweet for me, but now it is not the communists who are persecuting me, but my brother bishops.’ Lonely, and surrounded by the iron wall of the communist police, Bishop Varnava died in unexplained circumstances.
"During his ordination, on the Feast of the Transfiguration, 1947, in the Saborna church in Belgrade, the newly ordained Bishop Varnava uttered the following prophetic words: ‘When our Lord Jesus Christ sent his apostles into the world, he put before them sacrifice as the programme and way of their lives. And only readiness for apostolic sacrifice made the Galilaean fishermen receive apostolic honour. Lofty honour in the Church of Christ means lofty sacrifice. The Holy Hierarchical Council led by the Holy Spirit chose my unworthiness as bishop of the Church of Christ. By that choice they condemned me to the sacrifice of Christ’s Golgotha. And in condemning me to that highest sacrifice they gave me the loftiest honour that can be given to a mortal man. All I can say is that I shall gladly climb my Golgotha, and I shall never trade that honour for any other under the sun of God. The bishop’s position is a sacrifice on Golgotha because the bishop’s service is apostolic service, and to the apostles the Lord said: "The cup which I am drinking you will drink, and the baptism which I am being baptised with you will be baptised with" (Mark 10.39). And the cup which our Lord drank and the baptism with which he was baptized, what else could it be but the cup of Golgotha and the bloody baptism in His own Blood?… And that is why, though I know the weaknesses of the soul, I am not afraid that my leg will shatter on the road of Golgotha strewn with thorns that I am today undertaking. Even if it wanted to shatter, the light and the warmth of innumerable examples of Christ’s heroes will bring back to it firmness and might.’ This sermon by Bishop Varnava was fulfilled completely through his much-suffering hierarchical service and struggle to defend Church freedom.
"This was the way they prepared the total collapse of the Serbian Church. First by removing unfitting [bishops], and then carefully choosing new bishops sympathetic to the regime, or at least those who would accept the new kind of situation. In the period after the war the existence of the Serbian Church depended on the way the patriarch and the bishops treated Tito’s regime. In the time of Metropolitan Joseph, the patriarchal locum tenens, the Church still, regardless of external persecution, enjoyed internal freedom, because his firm position, if we exclude his lukewarm and flexible position towards the MP, let everybody know that he would firmly hold to the Church canons. And he succeeded. Much more modest, but still firm, was the position displayed by Patriarch Gabriel. The two of them represented the last defence of Church freedom.
"As we have seen, after the death of Patriarch Gabriel, the situation in the Church became more difficult. Using the UDBA, the communists choose Vikentije as patriarch, who did many favours for them. In 1958 the act of the destruction of the Serbian Orthodox Church came to its end when the UDBA imposed as patriarch German, who was an absolutely submissive tool, accepted all the requests of the regime. The first big concessions to Tito were the act of forming the Macedonian Autocephalous Church and the blessing of the pro-communist association of priests (partisans), through which the possibility of total control of the Church was created. Patriarch German told the priesthood in Belgrade: ‘Whichever priest insults Tito, insults me.’ Really the position of the Serbian patriarchate was harder than at any time in its long-lasting history, because for the first time its patriarch and bishops joined the enemies of the Church. In the years after the war most of the Serbian bishops obviously had no ecclesiological consciousness, which is a confessing position of struggle for the purity of the Orthodox faith, which was best illustrated by the presence of the Serbian Church at the councils of Moscow in 1945 and 1948, as well as the fact that not a single bishop or clergyman – though many of them were against the communists and criticised the behaviour of Patriarchs Vikentije and German, - never thought of stopping communion with the red patriarch in Belgrade, which all this time was in full eucharistic communion with the new calendarists…"[7]
From the time of the election of Patriarch German in 1958, and with the exception of a very few clergy, the communists were now in complete control of the Serbian Patriarchate. Archimandrite Justin Popovich wrote on the catastrophic situation of the Church at this time: "The Church is being gradually destroyed from within and without, ideologically and organizationally. All means are being used: known and unknown, open and secret, the most subtle and the most crude… And all this is skilfully dissolved, but in fact it is the most deadly of poisons with a sugar coating… The most elementary and rudimentary logic demonstrates and proves: cooperation with open atheists, the cursed enemies of Christ and the Orthodox Church of Christ, is illogical and anti-logical. We ask those who seek such cooperation, or already cooperate, or – terrible thought! – compel others to cooperate, with the words of Christ: ’What communion can there be between righteousness and lawlessness? Or what is there in common between light and darkness? What agreement can there be between Christ and Belial?’ (II Corinthians 6.14-15). Do you not hear the Christ-bearing Apostle, who thunders: ‘If we, or an angel from heaven begins to preach to you that which we have not preached to you, let him be anathema!’ (Galatians 1.8). Or have you, in the frenzy of the atheist dictatorship, gone completely deaf to the Divine truth and commandment of Christ: ‘You cannot serve God and Mammon’ (Matthew 6.24)?"[8]
The result of the subjection of the Serbian Church to the communists was predictable: "an alarming tendency on the part of the hierarchy of the ‘Mother Church’ to abandon true Orthodoxy and embrace heresy… the worst heresy that has ever assaulted the Orthodox Church – the heresy of ‘ecumenism’."[9]
In 1965 the Serbian Church entered the World Council of Churches. In September, 1966, two inter-Orthodox Commissions were established in Belgrade to negotiate with the Anglicans and the Old Catholics. In 1967 Patriarch German said to the Roman Catholic bishop of Mostar: "The times are such that our sister Churches have to lean on each other, to turn away from that which divided us and to concentrate on all that we have in common."[10] The next year he recognized Catholic marriages, and became one of the presidents of the WCC. In 1985, at a nuns’ conference, he welcomed two Catholic bishops "with special honour" into the sanctuary, and then all the conference members (Orthodox, Catholics and Protestants) recited the Creed together in the Liturgy.[11] In 1971 he signed the following WCC statement in Geneva: "The powerful Breath of renewal will blow into the mighty arena of the Church, as well as into each of her communities; for these are not simple administrative units, but they all constitute a part of the one great Christian Church."
Patriarch German liked to justify his ecumenism by quoting the Serbian proverb: Drvo se na drvo naslanja; a čovek na čoveka – "Tree leans on tree and man on man." But the Free Serbs had an answer to this. "We can also quote the proverbs of our people: S’kim si, onaki si. – ‘You are like those with whom you associate.’ If you find your fellowship with heretics, you begin to share their erroneous thinking and eventually become a heretic. As an American proverb goes: ‘Birds of a feather flock together.’"[12]
Commenting on the decision of the Orthodox Churches to become "organic members" of the WCC, Fr. Justin wrote: "Every true Orthodox Christian, who is instructed under the guidance of the Holy Fathers, is overcome with shame when he reads that the Orthodox members of the Fifth Pan-Orthodox Conference in Geneva [in June, 1968]… on the question of the participation of the Orthodox in the work of the World Council of Churches, considered it necessary ‘to declare that the Orthodox Church considers itself to be an organic part of the World Council of Churches.’
"This assertion is apocalyptically horrifying in its un-orthodoxy and anti-orthodoxy. Was it necessary for the Orthodox Church, that most holy Body of the God-Man Christ, to become so debased to such a pitiful degree that its theological representatives – some of whom were Serbian bishops – have begun to beg for ‘organic’ participation and membership in the World Council of Churches, which will supposedly become a new ‘Body’ and a new ‘Church’, which will stand above all other churches, in which the Orthodox Churches and the non-orthodox churches will appear only as parts. God forbid! Never before has there been such a betrayal and abandonment of our holy Faith!
"We are renouncing the Orthodox Faith of the God-Man Christ, and organic ties with the God-Man and His Most Holy Body: we are repudiating the Orthodox Church of the holy apostles, the Fathers, and the Ecumenical Councils – and we wish to become ‘organic members’ of a heretical, humanistic, humanized and man-worshipping club, which consists of 263 heresies – every one of which is a spiritual death.
"As Orthodox Christians we are ‘members of Christ.’ ‘Shall I therefore take the members of Christ and make them members of a prostitute?’ (I Corinthians 6.15). We are doing this by our organic union with the World Council of Churches, which is nothing other than the rebirth of atheistic man, of pagan idolatry.
"The time has finally come for the patristic Orthodox Church of Saint Sabbas, the Church of the holy apostles and Fathers, of the holy confessors, martyrs and new-martyrs, to stop mingling ecclesiastically and hierarchically with the so-called ‘World Council of Churches’, and to cast off forever any participation in joint prayer or services, and to renounce general participation in any ecclesiastical dealings whatsoever, which are not self-contained and do not express the unique and unchangeable character of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church – the Orthodox Church – the only true Church that has ever existed."[13]
ROCOR’s attitude towards the Serbian Church now began to change. Thus on September 14/27, 1967, Archbishop Averky of Jordanville wrote to Metropolitan Philaret: "With regard to the question of the Serbian Church, whose Patriarch German is a stooge of the communist Tito, as the Serbs themselves are convinced, calling him ‘the red patriarch’. We have heard this from many clergy and laity who have fled from Serbia. How can we recognize, and have communion in prayer with, ‘the red patriarch’, who maintains the closest friendly relations with red Moscow? Cannot our Hierarchical Council make erroneous decisions? Do we in the Orthodox Church have a doctrine about the infallibility of every Council of Bishops?"
Archbishop Averky’s attitude to the Serbs was confirmed by the ROCOR Council of Bishops in 1967, which resolved to annul the resolution of the Council of Bishops in 1964 on the preservation of prayerful communion with the hierarchy of the Serbian Orthodox Church.[14]
Metropolitan Agathangel (Pashkovsky) of New York writes: "Already on May 19 / June 1, 1967 the following resolution marked "Top Secret" was accepted by our Hierarchical Council in connection with [the Serbian Church’s] ecumenical activity: ‘In addition to the resolution of the present Council of Bishops on relations with the Serbian Orthodox church, the suggestion of his Eminence the First Hierarch and President of the Council of Bishops Metropolitan Philaret has been accepted and confirmed, that all the Reverend Bishops of the Russian Orthodox Church Abroad should refrain from concelebration with the hierarchy of the Serbian Orthodox Church.’ As far as I know, this resolution has never been repealed in a council."[15] Early in 1970, Metropolitan Philaret of New York announced to the members of the ROCOR Synod that since the Serbian Patriarch German had chosen to serve as Chairman of the World Council of Churches, ROCOR should avoid joint prayer and service with him, while at the same time not making a major demonstration of the fact.[16]
Nevertheless, communion with the Serbs continued. For many hierarchs and priests of ROCOR had been brought up in Serbia, and out of gratitude felt that the Serbs should not be condemned or excommunicated. To what extent this attitude was truly motivated by gratitude, and to what extent simply by fear of ROCOR’s losing its last friends in "World Orthodoxy", is a moot point. In any case, it was contrary to the canons of the Church, which require the breaking of communion with all those in communion with heresy. Such an act would have been truly loving, for true love for the Serbs dictated that it should be pointed out to them into what an abyss their ecumenism was leading them, an exhortation which would have acquired greater weight by a full break in communion…
*
Did any of the Serbs break from the now definitely heretical patriarchate? Inside Serbia, nobody broke completely, although in 1971 Archimandrite Justin broke off relations with the patriarch, while retaining contact with the other bishops.[17] In the Serbian emigration, there was a bigger rebellion in 1963, when Germanus and his Synod decided to divide the diocese of Bishop Dionysius of America and Canada into three. Claiming to see in this a communist plot, Dionysius refused to accept the decision, made his diocese autonomous and broke communion with the patriarch and his synod. On March 27, 1964 the Serbian Synod defrocked Dionysius. Then three pro-Belgrade priests were ordained bishops -in his place. Dionysius and his supporters refused to recognize these acts, for which the patriarchate condemned them as graceless schismatics.
However, this rebellion was not all that it seemed. Fr. Joseph of Avila writes: "In 1963 the American-Canadian diocese left the patriarchate of Belgrade. The American-Canadian diocese headed by Bishop Dionisije (Milivojevič) belonged to the Serbian Church in the United States. Besides Bishop Dionisije, since 1946 in the US there lived the Serbian Bishop Nikolai Velimirovič. Several years after the war, he was active in events in the Serbian emigration in the USA, he was rector of the theological school at Libertyville, and associate lecturer at the Academy of St. Vladimir and at the theological school in Holy Trinity monastery in Jordanville. In the 50s Bishop Nikolai withdrew from public life and he started living in the Russian monastery of St. Tikhon in Pennsylvania, where in the monastery theological school he lectured Pastoral and Dogmatic Theology and Homiletics, and later in 1955 he became rector of the theological school.
"Several Serbs at that time went to the Russian Church Abroad, among them former judge of the church court of the diocese of Žiča Jovan Saračevič. Under the name of Savva he was made a monk by Archbishop Leonty of Chile, was ordained as hieromonk in Argentina and later was chosen as a bishop of ROCOR in Edmonton, Canada.
"At the beginning of the 1950s, because of the bad situation in the Serbian Church, Michael Tošovič joined the Russian Church Abroad. He was one of the important people in Serbian True Orthodoxy. In the year 1952 he was chosen as teacher and lecturer of the Holy Bible and Greek language in the Russian seminary of Holy Trinity in Jordanville. In Jordanville he became a monk with the name Arsenije. Later he became a hieromonk and after that an archimandrite. In the middle of the 50s, with the blessing of Metropolitan Anastassy, he began to published the theological journal, Srpski misionar, in which he revealed the falling away of the Serbian Church, the Moscow Patriarchate and World Orthodoxy. Fr. Arsenije tried to convince the Serbs that since the Serbian patriarchate was enslaved by the communists, it was necessary to separate from the patriarchate and was in favour of founding a Serbian Church Abroad like the Russian Church Abroad.[18] Bishop Nikolai Velimirovič supported this idea of Fr. Arsenije, but in 1956 he reposed. Bishop Nikolai died under very suspicious circumstances, and there is very serious supposition that he was killed.[19]
"In 1963 the American-Canadian diocese with Bishop Dionisije left the Serbian patriarchate. The direct cause for the split was Bishop Dionisije’s suspension in May, 1963 because of moral and disciplinary transgressions. Dionisije claimed that he was suspended because he was anti-communist and that all the accusations were made up by the communist authorities, who were aiming to remove him and enslave the Serbian Church in the States using bishops loyal to the communists.
"In August, 1963 the clergy-laity assembly of the American-Canadian diocese refused obedience to the Serbian patriarchate. The followers of Dionisije claimed that the guilt of their bishop was invented, and they themselves brought up several accusations against the patriarchate, such as accepting Patriarch German from the communist authorities and his submission to those authorities, the foundation of the Macedonian Orthodox Church, the splitting of the American-Canadian diocese into three parts and the enthroning of three new bishops, all at the orders of the communists, as well as the accusations that the new bishops were loyal to the communists, etc.
"Although most of the accusations against the patriarchate were well-founded, and for that reason Dionisije had more than enough reasons to separate, many facts indicate that his sincerity was questionable.
"In 1963 Djoko Slijepčevič, a Church historian with an anti-communist orientation, but at the same time the follower of Patriarch German, wrote: ‘Dionisije is trying to defend himself by his anti-communism, which was quite problematic for a long time, and later nothing else but a pile of empty phrases. What is really anti-communist about Bishop Dionisije?’ On June 28, 1962, Srpska Borba, Bishop Dionisije’s main ally and defender today, stated several of his ‘anti-communist’ slips. These are: in his article on November 7, 1957 but published in Amerikansky Srbobran on January 16, 1959, Bishop Dionisije was telling the chetniks about Karl Marx’s example of unity. The newspaper Srpska Borba explains: ‘Maybe there is some logic in this act of Bishop Dionisije, because even the manner in which he led the action for a ‘Serbian gathering’ and the ideas that he disclosed in his article on the foundation of the Association of Ravnogortsy, really are much closer to Karl Marx and his proletarians than to the holy things and interests of the Serbian nation and Serbian Orthodox Church.
"’It could be said that in this case Bishop Dionisije was a victim of confusion both in a logical and an ideological sense: he was confused, but later ‘he gained his eyesight and found the right way’. The facts tell a completely different story: Bishop Dionisije sent his regards to Stalin, praised and glorified Tito and his People’s Liberation Army, and of course was for a long time on the payroll of Tito’s embassy in New York.
"’Glas Kanadskikh Srba twice, on July 25 and September 12, 1963, openly stated that Bishop Dionisije "in the autumn of 1944 through Dr. Šubšič greeted Marshal Tito and his courageous People’s Liberation Army in a telegram. He was on the payroll of the Yugoslav communist embassy in Washington until the leaders of Serb nationality in the US promised that they would give him financial support. He was the only one of the Serbian bishops who, on October 23, 1958, delightedly greeted the foundation of the Macedonian Orthodox Church as ‘a grand act and very useful for our Church" (Glas Kanadskikh Srba, September 12, 1963).
"’In the same article in which he revealed this opinion, and which is entitled ‘His Holiness Kir German, the fifth patriarch of the renewed patriarchate of Peč’ (Glas Kanadskikh Srba, October 23, 1958) Bishop Dionisije had this to say in trying to praise the new patriarch: ‘The first great act of the new patriarch, which is perhaps of ultimate importance for the whole of the Serbian Orthodox Church, was the satisfactory solution of the question of the so-called Macedonian Church’. At that time, Bishop Dionisije had not the slightest doubt as regards the regularity of the election of Patriarch German, because he wrote this as well: ‘And so the Holy Spirit and the electoral council of the Serbian Orthodox Church has decided that on the throne of the Serbian patriarchs should come Bishop German of Žiča, indisputably a very capable and gifted man, active and full of every virtue’ (Glas Kanadskikh Srba, October 23, 1958).’[20]
"Slobodan Draškovič, who in 1963 was one of the main followers of Dionisije and played a major role in the National Church Council of the American-Canadian diocese at which this diocese decided to disobey the patriarch, wrote in 1967: ‘There is no need to talk a lot about Bishop Dionisije. His policy, not only until May, 1963, but later as well, was marked by a policy of co-existence with the hierarchy of the enslaved and enchained Orthodox Church in Yugoslavia, in contrast with the very clear and strong decisions of the National Church Council. On March 1966, after almost four years of struggle against the Joseph Broz’s Patriarch German, he complained against German to the notorious Soviet agent, the ‘Russian Patriarch’ Alexis, and sought justice from him.’[21]
"The fact that Dionisije split from the Church only for personal reasons is shown by the fact that he several times stated he was against any split from the Mother Church - until he was suspended and understood that he would be condemned.
"Besides this, it was not only the anti-communism of Bishop Dionisije that was problematic. In 1957 the American-Canadian diocese of the Serbian Orthodox Church headed by Bishop Dionisije became a member of the heretical church organization, the National Church Council of America. Dionisije did not stop at that, but already then (in the 50s) he started to practise the most extreme ecumenism.
"In Orthodox Russia (no. 17, 1959) the following note was printed: ‘On Sunday, 15/28 August in Buffalo (Lakavana) there took place the consecration of the newly built Serbian church of St. Stefan. The all-night vigil was served by the parish priest Miodrag Djurič, accompanied by two Serbian priests and one Anglican priest. In the morning the triumphant reception of Bishop Dionisije and Anglican Bishop Scafe took place. 15 priests were serving, among them Serbs, Anglicans, Belorussians, Ukrainian samosviaty and Ukrainians under Archbishop Palladius. Besides Bishop Dionisije, as the oldest hierarch, Bishop Scafe also took part in the service. He made some exclamations in the service, kissed Bishop Dionisije, and they said: ‘Christ is among us, He is and will be’. He communed together with Dionisije in the Holy Gifts, and after that Bishop Dionisije gave communion to all the serving priests. At the banquet Bishop Scafe spoke of his admiration for Orthodoxy and how happy he was that America was having a chance to see beautiful Orthodox services on its land. He stated that in accordance with his abilities he was making a donation of $2500.
"‘… Just before the consecration of the church Bishop Scafe called Bishop Dionisije and the local priest of Lacavan to his side and showed them that the Episcopalians had sent $75,000 to our church in Yugoslavia. At this point Bishop Scafe showed pictures of those in the Orthodox world with whom he had communed before: the patriarchs of Jerusalem and Constantinople, as well as our Vikentije. As he was going to commune with Bishop Dionisije the next day, at the banquet he gave a gift of $2500 for the church in Lacavan.’[22]
"Concerning the Church situation among the Serbs abroad, Fr. Arsenije Tosovich wrote in 1964: ‘Bishop Dionisije recently for the first time referred positively to Misionar for its writing about separating from the enslaved patriarchate in Yugoslavia and for the letter Bishop Nikolai.’ And then he condemned Hieromonk Arsenije as the one who was ‘for the separation from the patriarchate’. And it was only when he was suspended and it was clear that he would be condemned, that he reminded us that the Church in Yugoslavia was not free and that he was being persecuted not only because he was guilty but because the communists wanted it. To tell the truth, nobody did more for the communists and for dissolving the Serbs in America than that same great Serb and great anti-communist Dionisije. If Tito was looking all over the world for a man for this job, he could not find a better one than this Dionisije, even if we don’t mention his blessing telegrams on the occasion of the liberation of Belgrade ‘to the father of the people, Stalin’….
"… And so if Bishop Dionisije was wrong, it doesn’t mean that the patriarchate was right and that the Serbian Church in Yugoslavia was free and that we should unconditionally submit to its decisions. On the contrary. Everything was said about that in the above-mentioned article of 1954, including the fact, for example, that all candidates for the hierarchy had to be approved by the communist central committee. The central committee of course would approve only of those candidates who were theirs or at least did not have any dispute with them. We, who are free, and who don’t want to put our necks under the communist yoke, cannot and should not accept in any way the communist choice of hierarchs. That would mean those candidates first have to receive Satan’s blessing and seal, and then be consecrated as hierarchs!…
"So far the American diocese and the whole emigration has had one unsuccessful bishop, Dionisije Milivojevich, and now there are five of them: three sparrows and two Dionisijes. Stefan, Firmilian and Grigorije, because of their dependence on the enslaved patriarchate, and his dependence on the communist godless authorities, will be obliged, whether willingly or not, ‘to fly over the sea’, keep in touch with the patriarch, and through him with the religious commission and communist authorities…
"…. Since these three hierarchs are willingly going into communist enslavement, and thereby have to submit to the godless authorities, there arises the question of their grace and the question of our submission to them. Of course, the answer to both questions can be only no. ‘For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel?’ (II Corinthians 6.14-15).
"We have two Dionisijes, that is, Dionisije Milivojevič and Irinej Kovačevič, who are both illegal and graceless. The first was condemned by the authority that enthroned him and which he constantly acknowledged. It is understandable that now he is trying to deny the right of that authority to condemn him, but that does not save him. Irinej Kovačevič was consecrated by Ukrainian samosvyaty, who themselves are not lawful and have no grace, so they could not give him what they themselves did not have. In his message for the Nativity of the Lord Dionisije has promised us more of these samosvyaty hierarchs. For this consecration Bishop Dionisije turned to the ROCOR and American Metropolia, but only the samosvyaty accepted.
"With regard to that subordination of the official church to the godless authorities, we should do as the Russians did in the same case. Will we found a Catacomb Church, as it was in Russia, which will not acknowledge the official Serbian Church and its capitulation before the godless authorities? We don’t know. But we know what the emigration should do, it is the foundation of the Serbian Church Abroad. What Bishop Dionisije is doing now is nothing, since he is under suspension and he is guilty of many things and should have been defrocked long ago. For two decades he has been leading the American-Canadian diocese, and now we see her pitiful end. And the same thing would have happened with the Church Abroad if he had been the leader. But will the Serbian emigration do something in this direction, or will it go on following the leader without a head? We cannot tell for sure. In any case, honourable and God-loving Serbian emigrants, who have God and faith in the Church in the first place in their lives, should remember that each hierarch who comes to freedom but out of submission of Patriarch German and in connection with the godless communist authorities and their representatives, is not a real hierarch and has no grace of God in him. In the same way, the suspended Bishop Dionisije and his samosvyat Irinej and all the others whom he may invent are not real and have no grace. To the Serbian God-loving emigration it is left that until the foundation of the Serbian Church Abroad the Serbian God-loving emigration should turn for their spiritual needs to the representatives of our sister Church, the Russian Church Abroad. She is the only one in the world that has remained faithful and undefiled as the Bride of Christ.’[23]"[24]
Cast out in this way, three dioceses and about forty parishes of the Free Serbs, as they now called themselves, applied to join ROCOR. Two archbishops – Averky of Jordanville and John (Maximovich) of San Francisco - supported them. However, other bishops, including Archbishop Vitaly of Canada, were opposed, and the Free Serbs’ petition was rejected. The quarrel was so heated that two Russians were excommunicated.[25] After being rejected by ROCOR, the Free Serbs then briefly came into communion first with two Ukrainian bishops of the Polish Orthodox Church and then with the Patriarchate of Alexandria. Fleeing the Ecumenism of the latter, they briefly found refuge with the "Florinite" Greek Old Calendarists led by Archbishop Auxentius, on September 11/24, 1981.
Whatever their canonical status, the Free Serbs did oppose ecumenism – until their reabsorption into the patriarchate in 1991. Moreover, not all the Free Serbs joined the patriarchate, and some parishes remain independent to this day.
Moreover, there were some anti-ecumenists in the patriarchate. Thus in November, 1994 Bishop Artemije of Raska and Prizren, in a memorandum to the Serbian Synod, said that ecumenism was an ecclesiological heresy, and that the Serbs should withdraw from the WCC.[26]
More recently, he has written: "The result of this participation [of the Serbs in the WCC] was reflected in certain material aid which the Serbian Orthodox Church periodically received from the WCC in the form of medicine, medical care and rehabilitation of some individuals in Switzerland, student scholarships, and financial donations for certain concrete purposes and needs of the SOC, such as the construction of a new building by the Theological School. We paid for these crumbs of material assistance by losing, on the spiritual plane, the purity of our faith, canonical consistency and faithfulness to the Holy Tradition of the Orthodox Church. The presence of our representatives (and Orthodox representatives in general) at various and sundry ecumenical gatherings has no canonical justification. We did not go there in order to boldly, openly and unwaveringly confess the eternal and unchangeable Truth of the Orthodox Faith and Church, but in order to make compromises and to agree more or less to all those decisions and formulations offered to us by the non-Orthodox. That is how we ultimately arrived at Balamand, Chambésy and Assisi, which taken as a whole represent infidelity and betrayal of the Holy Orthodox Faith."[27]
Logically, in order to make his actions conform with his words, Bishop Artemije should have left the Serbian Synod. Nevertheless, his words remain true, and constitute a clear condemnation of the position of the Serbian Church since its entry into the WCC in the 1960s. At the present time, Bishop Artemije is in schism from the official Serbian patriarchate, but not for reasons of ecumenism; and he claims to be still in communion with the rest of World Orthodoxy…
*
In 1968 the Bulgarian Church adopted the new calendar. The change was imposed, according to one account, at the insistence of the WCC, which in 1965-66 had sent letters on the subject to the churches; but according to another account – on orders from the Moscow Patriarchate, which wished to see how the people reacted to the change in Bulgaria before proceeding with the same innovation in Russia.[28] In the event, only the Russian Women’s Monastery of the Protecting Veil in Sophia refused to accept the change.
Bishop Photius of Triaditza writes: "For some months before the introduction of the reform, Tserkoven Vestnik informed the astonished believing people that the reform was being carried out ‘in accordance with the ecumenist striving of the Bulgarian Orthodox Church…’ The Bulgarian clergy and even episcopate were completely unprepared to resist the calendar innovation, while the people, suspecting something amiss, began to grumble. The calendar reform was introduced skilfully and with lightning suddenness by Patriarch Cyril – an ardent modernist and ‘heartfelt’ friend of the Ecumenical Patriarch Athenagoras! Everyone knew that the patriarch was on good terms with the communist authorities (for his ‘services’ to it he received the title of ‘academic’ – member of the Bulgarian Academy of Sciences!) Everyone also knew of his despotic temperament: he did all he could to persecute and annihilate his ideological opponents."[29]
In fact, the Bulgarian Church’s change to the new calendar had been dictated by the Russian communists, who wanted to introduce the innovation into the Russian Church, too, but wanted to "test the waters" by trying it out on the Bulgarians first.[30] But when the only Orthodox in Bulgaria who rejected the innovation turned out to be the Russian women’s monastery at Knyazhevo, Sophia, the Russians decided to hold back from introducing it in Russia…
However, while deciding not to adopt the new calendar, the MP had already, in 1967, declared: "Bearing in mind the practice of the Ancient Church, when East and West (Rome and the Asian bishops) celebrated Pascha at different times, while preserving complete communion in prayer between themselves, and taking into account the experience of the Orthodox Church of Finland and our parishes in Holland, as also the exceptional position of the parishioners of the church of the Resurrection of Christ amidst the heterodox world, [it has been resolved] to allow Orthodox parishioners of the Moscow Patriarchate living in Switzerland to celebrate the immovable feast and the feasts of the Paschal cycle according to the new style."[31]
In 1964, some parishes of the Bulgarian patriarchate in the USA petitioned ROCOR to ordain their leader, Archimandrite Cyril (Ionchev), to the episcopate. The petition was granted, and in August Metropolitan Philaret and four other bishops ordained him. However, in 1968 the Bulgarian patriarchate adopted the new calendar, and soon the Bulgarian parishes began to agitate that they be allowed to use the new calendar. In 1971 Bishop Cyril gave a report on this subject to the Hierarchical Council in Montreal, and in 1972 he and his parishes joined the American Metropolia with the permission of ROCOR.[32]
July 18/31, 2016.
[1] A Time to Choose, Libertyville, Ind.: Free Serbian Orthodox Diocese, 1981, p. 10.
[2] Hieroschemamonk Akakije, in V. Moss, Letopis’ Velike Bitke (Chronicle of a Great Struggle), Belgrade, 2007, p. 395.
[3] A Time to Choose, op. cit., p. 11.
[4] M. Atavina, personal communication.
[5] June 13, 2015. http://www.telegraf.rs/vesti/1111926-dobrica-cosic-krcun-i-udba-izabrali-su-germana-za-patrijarha-foto.
[6] Popovich, "The Truth about the Serbian Orthodox Church in communist Yugoslavia", translated into Russian in Vestnik Germanskoj Eparkhii Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi za Granitsei (Herald of the German Diocese of the Russian Orthodox Church Abroad), NN 2 and 3, 1992.
[7] Hieroschemamonk Akakije, op. cit., pp. 345-350.
[8] Popovich, in Vestnik Germanskoj Eparkhii Russkoj Tserkvi za Granitsei (Herald of the German Diocese of the Russian Church Abroad), № 3, 1992, pp. 15, 16.
[9] A Time to Choose, 1981, p. 43.
[10] Joachim Wertz has provided another possible motive for the Serbian Church’s entry into the WCC. He considers that "the main ‘practical’ reason why the Serbian Orthodox Church joined the WCC was that that body would provide the Serbian Church with visibility in the West and thus forestall any liquidation of the Church by Tito. Also the WCC would contribute to the rebuilding of many of the churches destroyed by the Croatian Ustasha in WWII. The rebuilding of these Churches was very high on the agenda of the Serbian Church. The Croatians wanted to erase the presence of Orthodoxy. The Serbian Church felt it imperative to bring back that presence and VISIBILITY. Similarly the WCC, and individual Western protestant Churches contributed to the building of the new Theological Faculty in the Karaburma section of Belgrade. This can be viewed as a posthumous slap in the face of Tito, who forbade the construction of any church in that neighborhood. He wanted it to be an ideal progressive, socialist community of ugly high rise apartments with no trace of the Church." ("Re: [orthodox-synod] Strange letter", orthodox-synod@yahoogroups.com , 26 February, 2003).
[11] John Chaplain, "[paradosis] Re: Serbian Church – another item", orthodoxtradition@ yahoogroups.com , 26 May, 2004.
[12] A Time to Choose, op. cit., p. 47.
[13] A Time to Choose, op. cit., p. 53.
[14] Psarev, op. cit., p. 4
[15] Pashkovsky, August 21, 2007, http://guest-2.livejournal.com/294723.html.
[16]Psarev, op. cit., p. 4.
[17]Orthodoxos Typos (Orthodox Press), № 144, June 15, 1971, page 4; Hieromonk Sabbas of Dečani, personal communication. When Fr. Justin died on March 25, 1979, the patriarch did not attend his funeral…
[18]Hieromonk Arsenije, "Slobodnim Srbima – slobodna i normalizovana Tsrkva", Srpski misionar, N 19, 1964. (V.M.)
[19] The New Chrysostom, Bishop Nikolaj Velimirović, St. Tikhon’s Seminary Press, 2011, pp. 106-117.(V.M.)
[20]Slijepčevič, "Ogreshena vladike Dionisija", Iskra, Munich, 1963, pp. 13-14 (V.M.).
[21]Draškovič, "Kojim putem? Poruka mladom srpskom narashtaju koji Broz nije uspeo da prevaspita", Chicago, 1967, p. 60 (V.M.).
[22] Srpski misionar, NN 9-10, 1959 (V.M.)
[23] Srpski Misionar, N 19, 1964, pp. 3-9 (V.M.)
[24] Monk Joseph of Avila, Serbia, in Moss, Letopis Velike Bitke, op. cit., pp. 399-404. Joachim Wertz (private e-mail communication, February 4, 2001) writes: "You ask me about my attitude toward the ‘Free Serbs’, by which I understand what has become the New Gracanica Metropolia. The schism has been overcome, but the healing continues. Therefore I am reluctant to speak on this matter (and also because I do not have first-hand experience of that tragic time). Nevertheless it is something that needs to be discussed, especially for the benefit of non-Serbian Orthodox. I have read on the matter, but much of what I know comes from others who were either involved in the issue or who were witnesses. Most of these people were very close to Vladika Nikolai [Velimirovich]. And I personally trust them. Complaints were made against Bishop Dionisije to the mother Church in Belgrade long before the events of 1963. He was accused of conduct unbecoming of a Bishop. People are willing to suggest financial misconduct, but certainly moral misconduct is implied (one of these areas where Serbs are not too open). Dionisije had successfully established for himself his own domain in North America ‘from the Atlantic to the Pacific’ that was untouchable. Perhaps much like Archbishop Iakovos did. No one doubts the sincerity of his anti-fascism or his anti-communism. During WWII he did much to publicize the plight of the Serbs. But he had his ‘own little thing going’ and no one could intrude. Problems began happening after the war when the Serbian émigrés, including Bishop Nikolai, started to arrive. Many of these émigrés, several of whom I know or knew personally, had various levels of theological education. Their services were not welcomed by Dionisije. Neither was Vladika Nikolai. He was treated rudely and often ignored. Dionisije perceived him as a threat, though Nikolai always deferred to him as the ruling Bishop. Eventually Vladika Nikolai accepted the offer of the rectorship of St. Tikhon's Seminary and virtually ‘retired’ from American Serbian Church life. In short, Dionisije was threatened by the potential for spiritual and ecclesiastical ‘revival’ that came with the émigrés. (Please bear in mind that Vladika Nikolai, while in exile, was still the ruling bishop of the diocese of Zhicha. He remained such until his repose. He could not have been a canonical threat to the bishop of another diocese). In a remarkable example of bad timing, the complaints to the Patriarchate against Bishop Dionisije reached a crescendo at the very time Dionisije was most vocally anti-communist. Pressure on the Patriarchate to remove him came from two sources: his own flock and the Tito regime. Several bishops were sent to investigate him and they were treated not in a dignified manner. Dionisije refused to cooperate. There was no choice but to remove him. (Note this happened in 1963, Bishop Nikolai having died in 1956). Dionisije wrapped himself in anticommunism to conceal other matters. This is my understanding and opinion. Left on his own, at one point he even applied to be accepted by the Moscow Patriarchate! He was refused, as he was by the Synod Abroad. To create a hierarchy, he resorted to uncanonical Ukrainian bishops. Fortunately his successor, Bishop Irinej (Kovachevich), later Metropolitan of the New Gračanica Metropolia, was a much more Church centered man. Later when the diocese became ‘the Free Serbian Church’ and he had contacts with the Greek Old Calendarists (at that time it was with Paisios of Astoria and whatever Synod he was part of), and also with the anti-ecumenist Patriarch of Alexandria Nicholas VI (under whose jurisdiction he was for a brief time), he and some of the clergy became more traditionalist (although I can't say how well this trickled down). It does seem that Metropolitan Irinej did leave a traditionalist legacy. As I said above, the schism is over, but is still healing. All of the antagonism now revolves around property claims and money. I should point out that I believe it is true that Fr. Justin Popovich truly believed that Bishop Dionisije was being persecuted because of his anti-communism. I feel he only knew, or was willing to believe, only one aspect of the story."
[25] Joseph Legrande, "Re: [paradosis] July 2001 Sobor", orthodox-tradition@yahoogroups.com, September 16, 2002.
[26] "The arrangements were made by Bp. Paisius of Astoria acting as Auxentius’ representative… The decision is signed by Abp. Auxentius, Metr. Paisius of North and South America and Metr. Euthymius of Thessalonica" (George Lardas, "The Old Calendar Movement in the Greek Church", Holy Trinity Monastery, Jurdanville, 1983 (unpublished thesis), p. 22).
[27] Bishop Artemije, Statement to the Thessalonica Theological Conference, September, 2004.
[28]Eastern Churches Review, vol. II, № 3, Spring, 1969, p. 335.
[29]Pravoslavnaia Rus' (Orthodox Russia), № 21 (1522), November 1/14, 1994, pp. 8, 9.
[30]Archimandrite Porphyrius of Sofia, personal communication, February, 1981. This was confirmed by the HOCNA (now TGOC) Bishop Sergius of California, who writes: "In 1971 Metropolitan Nikodem of Leningrad visited Alaska in order to venerate the relics of St. Herman. In an effort to distance itself from the MP, the then-new OCA had not invited the MP hierarchs to participate in the August, 1970 canonization of that Saint. Metropolitan Nikodem (and his OCA guide, Father Kyril Fotiev) spent 5 days in Sitka en route to Kodiak and I was the local host. During several long conversations, Metropolitan Nikodem mentioned that he was intent on adopting the civil calendar for the MP, and as a test case, had brought about Bulgaria’s switch from the patristic to the civil calendar."
[31] Zhurnal Moskovskoj Patriarkhii (Journal of the Moscow Patriarchate), 1967, № 8, p. 1; Monk Benjamin, op. cit., part 5, p. 36.
[32]Pravoslavnaia Rus’, № 16 (1829), August 15/28, 2007, pp. 14-15.
* * *
МЫ ЖИВЫ ЕЩЕ..
М
ы живы ещё. Нас осталось немного.
* * *
TO MOTHER-IN-LAW
You probably have heard them,
Those stories of in-laws
Especially the women
Berated without cause.
Some stories have their humor,
While others have some wit
But those which rest on rumor
Must hurt them to the quick.
We mustn’t e’er deride them,
The Mothers of our mate
But rather stand beside them,
And shield them from all hate.
"Tis true she’s not my Mother,
But I prefer her grace
To that of any other
Who’d never take her place.
So, welcome to you Mother,
Or rather mine-in-law
And could I choose another
I wouldn’t change at all.
For always when you come here,
A blessing to our home,
You’ll always find my love here
As strong as for my own.
* * *
НОВОРОССИЙСКИЙ РАЗЛОМ
Елена Семёнова
Действующие лица
Виктор Викентьевич Лохвицкий – учёный, 70 лет.
Леонид Лохвицкий – его сын, педагог, 44 года.
Лиза Лохвицкая – его дочь, врач, 36 лет.
Анна Лохвицкая – его дочь, 40 лет.
Эдуард – муж Анны, политик, 43 года.
Алексей Стратонов – командир ополчения, 40 лет.
Женька – сын Лизы, 18 лет.
Кристина – дочь Эдуарда от первого брака, 17 лет.
Глеб – майдановец, 18 лет.
Командир подразделения – подчинённый Алексея
Ополченец
Раненый
1-й мародёр
2-й мародёр
Беженка
Старуха
1-я тень
2-я тень
Ополченцы
Беженцы
Акт 1.
Сцена 1.
Дом Лохвицких. Гостиная. Виктор Викентьевич читает газету, сидя в кресле-качалке. На диване, поджав под себя ноги, сидит Кристина, сосредоточенно давя кнопки планшета. Входят Анна и Леонид.
АННА: Лёнечка, наконец-то! Ты сегодня очень поздно.
ЛЕОНИД (на ходу вальяжным движением сбрасывая плащ): Я, Аня, к ОГА ходил.
АННА (удивлённо): Ты?!
ЛЕОНИД: Чему ты удивляешься? Ты же знаешь, что я с детства любопытен. Всегда нравилось наблюдать жизнь…
КРИСТИНА: Жизнь не наблюдать надо, а жить ею.
АННА (строго): Помолчи!
ЛЕОНИД: Нет уж, увольте! Жить в наше время дорого и нервно, наблюдать – гораздо дешевле во всех смыслах! (разваливается в кресле и зевает)
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Для того, чтобы просто наблюдать, нужно иметь железные нервы. (Отшвыривает газету) Разве ты не видишь, к чему всё идёт? К какой пропасти?! Скоро это кресло загорится под тобой, и ты уже не сможешь раскинуться в нём, изображая из себя чёрт знает что!
ЛЕОНИД (становясь серьёзным): Я, быть может, лучше вас всех понимаю, к чему идёт. И именно поэтому не хочу в этом участвовать. А, вот, люди, которых я сегодня видел, полны каких-то пьянящих надежд. Их глаза блестят! Их речи пылки и прекрасны! Они вдруг осознали себя… людьми, которые имеют права, которым есть за что сражаться.
АННА: И что тебе не нравится?
ЛЕОНИД: Ты знаешь, Аня, я эгоист и единоличник. Я не люблю массовых экстазов, не люблю горячности…
КРИСТИНА: И вообще ничего не любите, кроме себя…
АННА: Следи за языком!
ЛЕОНИД: Оставь ребёнка в покое. Она, в сущности, права. Первое, что я сегодня вижу, это то, что экзальтация масс с обеих сторон лишит меня, в конце концов, моей уютной кафедры, моего уютного кресла… И всего нашего уютного мирка, который мы так глупо не ценим, считая… нищим, отсталым, скучным…
АННА: Ты жуткий циник!
ЛЕОНИД: И то верно. Только, дорогая сестрёнка, когда наш дом начнёт гореть, ты первая начнёшь ломать руки в горе по своему утраченному мирку. Нет, вру… Первым начнёт твой муж.
АННА: Эдуард сейчас…!
ЛЕОНИД: …стоит на одной из трибун и несёт, как всегда, околесицу. Несёт, впрочем, талантливо. Задорно и в нужной струе – так, как понравится сейчас публике.
АННА: Ты не смеешь так говорить! Он сейчас сражается за наше будущее!
ЛЕОНИД: Несомненно! За ваше будущее он сражается, это ты верно сказала. Кажется, он и в Четвёртом году за него сражался? В Киеве? Шарфик у него был такой хороший, оранжевого цвета…
АННА: Каждый может ошибиться!
ЛЕОНИД: Да-да! Безусловно! Рассчитывать, что новые хозяева не забудут и дадут тёплое местечко, но не рассчитать, что у них слишком много… как бы это назвать… друзей!.. чтобы мест хватило на всех – это трагическая ошибка!
АННА: Не смей так говорить о моём муже!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Прекратите оба! Лёня, что ты видел там, кроме Эдуарда?
ЛЕОНИД: Кроме? А что, вы разве не смотрите телевизор?
АННА: Он сломался. Мастер придёт завтра.
КРИСТИНА: Там от ОГА пришлых погнали…
АННА: Давно пора!
ЛЕОНИД: В Твиттере прочла?
КРИСТИНА: ВКонтакте!
ЛЕОНИД (поднимая указательный палец): Вот! Вот, он вечный двигатель будущего! Ещё репортёры не успели расчехлить свои камеры, ещё весь мир пребывает в неведении, ещё само событие не успело произойти, а Соцсети уже знают! И направляют! И устраивают революции! Лайки и репосты – новейшее оружие современной войны! Жаль только, что они не умеют главного – умиротворять тех, в ком разожгли пламя ненависти…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Так что там было?
ЛЕОНИД: Ничего особенного. Наши молодцы отшлёпали пришлых сосунков, пояснив им, что нехорошо лезть со своим майданом в чужие города, и послали их до дому, до хаты. Вот и всё. Теперь ОГА в руках восставшего народа, который спешно укрепляет её, надеясь дать отпор т.н. представителям власти.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: На Украине больше нет власти!
ЛЕОНИД: И то верно. Прекрасное это время, когда нет власти! Каждый может называться ею и править, пока его не раздавит другая власть. В Киеве правят бал самозванцы, дерущиеся между собой. У нас дело пока лучше – всё-таки заметны лидеры, выдвинутые народом. Но… Заметны и те, кого для этого народа выдвинули совсем другие люди… И они тоже непременно начнут жрать друг друга – это закон природы. А пока у всех митинговый задор, все чего-то требуют, все пытаются установить свои порядки, а в итоге выходит совершенный беспорядок, гуляйполе в масштабе целой страны… Ах, да! Среди прочих знакомых всё лиц видел сегодня Глебчика! Тёти Катиного внука. Помните его? Кристина, ты должна помнить!
Кристина недовольно поводит плечом, не отрываясь от планшета.
АННА: Разумеется, мы помним Глеба. Но разве же он не в Киеве с родителями?
ЛЕОНИД: Да нет, здесь. Ему сегодня как раз тумаков и надавали среди прочих. Как щенка, выволокли из администрации и поучили. Но грех, в сущности, ему и остальным жаловаться на наши манеры. Их товарищи в Киеве наших бы так дубьём и цепями отходили, что калеками бы оставили. А то и прибили, пожалуй. А тут – вполне по-отечески насовали. Все на своих ногах убрались.
АННА: Хорошо, что тётя Катя не дожила, чтобы внука среди бандеровцев увидеть… Что же выходит и родители его…
ЛЕОНИД: А что ты хочешь? Я намедни с одноклассником своим Севой переписывался… Папа, ты помнишь Севу?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Способный был парень.
ЛЕОНИД: Да-да, ты мне его вечно в пример приводил! Вот от этого способного парня я вчера узнал, что я – клятый москаль! Хорошо, что в фэйсбуке общались, а то он бы, пожалуй, с кулаками на меня полез. А так, дружелюбный взаимный отфренд… А с Глебчика что взять? Обычный малолетний дурак с обильно унавоженными мозгами.
КРИСТИНА: Хорошо обзывать других дураками, сидя в кресле и плюя на всех! Он, может, тоже человеком себя почувствовал, с правами! Тоже жить хочет иначе!
ЛЕОНИД: Пусть подрастёт сперва и ума наберётся, прежде чем человеком себя ощущать и свои права другим в обязанности навьючивать. А жить мы станем иначе, когда такие балбесы прежде прав начнут понимать свои обязанности!
КРИСТИНА: А у вас-то что за обязанности?! Вы-то?! Вы-то что в жизни делаете?! Наблюдатель! Да ну вас!
Кристина выбегает из комнаты, на пороге сталкиваясь с входящей Лизой.
Сцена 2.
Те же и Лиза.
ЛИЗА (ставя на пол тяжёлые сумки): Как в дом не войдёшь, тут всё скандал… Что опять-то случилось?
АННА: Девчонка совсем распустилась! Никакой благодарности! Никакого воспитания!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ (качая головой): И никакого уважения к старшим… Чертополох и только… Тут уж не воспитаешь.
ЛИЗА: А вы пробовали её воспитывать? Хотя бы говорить с ней по-человечески? Благодарность! За что ей быть благодарной, Аня? За то, что твой муж бросил её мать, а после её смерти не отправил её в приют?
ЛЕОНИД: Он бы и отправил. Да Эдичка же в политики метит. А брошенный ребёнок – минус нехилый процент потенциальных избирателей!
АННА: Всё-таки Кристина права! Ты… Что ты такое, чтобы так оскорблять моего мужа?!
ЛЕОНИД: Кажется, сегодняшний день закончится битиём уже меня.
ЛИЗА: Оставил бы ты в покое Эдуарда. Да и других… Всех нас есть, в чём укорить. Лучше скажи, Женьку не видел? Боюсь за него… Телефон у него отключен.
ЛЕОНИД: Забыл зарядить, как всегда, лоботряс. А то и потерял. Не знаешь, что ли, сына своего?
ЛИЗА: Знать бы хоть, где он…
ЛЕОНИД: Да наверняка у ОГА со своей ватагой.
ЛИЗА: Это-то и страшно. Ну, как стычка какая… Я тут по телевизору видела, как ребят наших били – цепями, арматурой… Одному голову проломили…
ЛЕОНИД: Успокойся, сегодня не их день. А завтра наверняка объявится твой Женька. Подхарчиться-то надо молодому организму.
ЭДУАРД (входя): Подхарчиться и я бы непрочь! (целуя жену) Что, Лиза, у нас на ужин?
ЛИЗА (усмехнувшись): Овсянка и компот… Эдик, а ты Женьку моего не видел?
ЭДУАРД (разводя руками): Увы! Ах, какой день сегодня был! Какой день! Поворотный я бы сказал день! Ныне мы ещё не де-юре, но уже де-факто! Мы сами теперь! И не позволим нам диктовать! И нас услышат!..
Лиза тихо уходит вместе с сумками.
ЛЕОНИД: Лично я уже наслушался. Пойду покурю.
Уходит также.
ЭДУАРД: Иногда мне начинает казаться, что он сочувствует майдану…
АННА: Ты ошибаешься. Мой брат сочувствует только себе. Ну, рассказывай же! Мы с папой целый день без новостей…
Сцена 3.
Двор возле дома Лохвицких. Кристина сидит на качелях, чуть покачиваясь. Раздаётся птичий посвист. Кристина резко оборачивается. Из-за кустов выныривает Глеб.
ГЛЕБ: Привет, Мышь! Хорошо, что смогла выйти!
КРИСТИНА: Кто бы меня там держал… (с беспокойством приглядываясь к Глебу) Ты как? Тебя не сильно ранили?
ГЛЕБ: Фигня, до свадьбы заживёт. Вата бешенная… Хотят в своём долбанном болоте жить, в навозной куче… А кто помешает, тех ненавидят!
КРИСТИНА: А может быть, это и есть свобода выбора? Почему бы не жить всем, как хочется?
ГЛЕБ: Ты не понимаешь! Если позволить быдлу жить, как ему хочется, оно не даст жить нормальным людям! И добро бы оно знало, как ему хочется! Так нет! Тупо повторяет, что ему из «рашки» скажут!
КРИСТИНА: Выходит, мы здесь все быдло, а ты один человек?
ГЛЕБ: Нет! Ты тоже человек!
КРИСТИНА: И на том спасибо. Ты знаешь, какие у меня отношения с родными…
ГЛЕБ: Снобы!
КРИСТИНА: Может быть… Но они не «тупо» повторяют, что им кто-то говорит. Лёнечку повторять что-либо ни одна живая сила не заставит. Да и деда тоже. А они с первого дня майдан проклинали. И власть, и майдан.
ГЛЕБ: Ишь ты! И власть, и майдан! А какого ж рожна им надо?
КРИСТИНА: Дед говорит, что нужен третий путь. Я, правда, не знаю, что это за путь…
ГЛЕБ: Да он и сам не знает! Он же «совок»!
КРИСТИНА: Неправда! Он чмо, конечно, но «совок» всегда ругает!
ГЛЕБ: Я смотрю, они и тебя в своё болото затащили! Уже защищаешь их!
КРИСТИНА: Я никого не защищаю! Я понять хочу! Понять! Тебя… Их… Что происходит вообще! Вы обзываете нас «ватой», «быдлом», «совками»… Вас здесь «фашистами», «бандерами» и «майдаунами» ругают…
ГЛЕБ: По-твоему, я фашист?!
КРИСТИНА: А по-твоему, я быдло?! В конце концов, ведь здесь люди жили мирно. Они не приезжали ни в Киев, ни дальше, чтобы диктовать, как жить. Даже ничего не требовали! Вы сменили власть – ну, хорошо… Но зачем вы приехали сюда и стали наводить здесь новый порядок? Кого вы этим хотели убедить в своей правоте? Не лучше ли было сперва заняться устройством нормальной жизни для всех людей? Это было бы куда лучшей агитацией, чем кричалки и биты!
ГЛЕБ: Вот, если бы мы вовремя с этими битами и чем поувесистей в Крым приехали, то там бы сейчас полосатая тряпка не болталась!
КРИСТИНА: Если бы вы не привели новую власть и не кричали бы на каждом углу про москалей и гиляку, то для этого бы и бит не понадобилось!
ГЛЕБ: Смотрю, совсем тебя твои родственнички обработали!
КРИСТИНА: Неправда! Только что я спорила с ними, защищая тебя! А, вот, кто обработал тебя?! Мы не виделись два года! Два года с тех пор, как не стало тёти Кати! И, вот, встретились… И ты даже не смотришь на меня. А весь горишь ненавистью! Зря я ждала тебя…
ГЛЕБ: Не зря! (хватая Кристину за плечи) Я за тобой приехал! Слышишь? За тобой! Поедем со мной, Мышь! Будем вместе за новую жизнь бороться!
КРИСТИНА (вырываясь): Чтобы бороться, нужно знать за что. А я не знаю, за что вы боретесь. Я вижу только, как с каждым днём становится всё больше злобы… Нет, я не хочу так!
ГЛЕБ: То есть предпочитаешь остаться в этом болоте?
КРИСТИНА: Предпочитаю дождаться, когда ты станешь прежним! А сейчас я тебя не знаю…
ЖЕНЬКА (появляясь из-за угла): Зато я знаю! (вразвалку подходя к Глебу): Ну, что, сало уронили? Давай скачи отсюда, пока цел! Мало отгрёб сегодня? Добавить?
ГЛЕБ (засучивая рукава): Ну, это кто кому! Без группы поддержки ты зараз на земле будешь!
КРИСТИНА: Прекратите немедленно оба! Вы же были друзьями!
ЖЕНЬКА: Были да сплыли. Кто ж знал, что дружок-то на гиляку меня вешать заявится!
ГЛЕБ: Да кому ты сдался, придурок! (бьёт Женьку под скулу)
ЖЕНЬКА (уворачиваясь и целясь противнику в живот): Получи, фашист, гранату!
КРИСТИНА (пытаясь по очереди оттащить обоих дерущихся): Хватит! Хватит же!
Внезапно чья-то сильная рука расшвыривает в разные стороны противников. Между ними возникает АЛЕКСЕЙ в камуфляже и с рюкзаком на плече.
Сцена 4.
Те же и Алексей.
АЛЕКСЕЙ: Что, разве не слышите, о чём вас просят? Хватит!
ГЛЕБ (сплёвывая и утирая кровь с разбитых губ): Ещё один сепаратюга.
АЛЕКСЕЙ: За «сепаратюгу» тебя, щенка, следовало бы выпороть, но да с тебя на сегодня будет. (протягивает Глебу руку, чтобы помочь подняться)
ГЛЕБ (поднимаясь сам): Да пошёл ты…
АЛЕКСЕЙ: Невежливо обращаться на «ты» к людям много старше тебя. Впрочем, о чём я. Жечь безоружных «беркутят» было ещё более невежливо…
ГЛЕБ: Я никого не жёг!
АЛЕКСЕЙ: Возможно. Ты всего-навсего заправлял бутылки, подавал булыжники, чтобы проломить чью-нибудь голову. И уж конечно не беспокоясь, что у того, кому её проломят, останутся вдовы, родители, дети-сироты…
ГЛЕБ: Ага! А дубинками безоружных людей колошматить – куда как вежливо!
АЛЕКСЕЙ: Невежливо. Но необходимо. Во всяком случае, когда в этом состоит твой долг.
ГЛЕБ: Сразу видать «вежливого человека»! Давно с Крыма, дядя?
АЛЕКСЕЙ: Не бывал, увы! Прямиком из Москвы теперь.
ГЛЕБ: Ещё лучше! В ГРУ, поди, служишь?
АЛЕКСЕЙ (смеясь): Не поверишь, машины мыл и чинил в автомастерской!
ГЛЕБ: Ещё скажешь, что здесь родился и вырос, да?
АЛЕКСЕЙ: И родился, и вырос. И «мать моя здесь похоронена в детские годы мои»… И отец тоже.
ГЛЕБ: Ищи дурака твоим басням верить!
ЖЕНЬКА (растирая ушибленную руку): Зря не веришь. Это дядя Лёша Стратонов. Не признал, что ли? Совсем вам там в Киеве всякую память отшибло…
ГЛЕБ: Все значит заодно!
АЛЕКСЕЙ: Все, дружок, все! И какой вывод?
ГЛЕБ: Да пошли вы! (разворачивается и идёт прочь)
АЛЕКСЕЙ (вслед): Правильный вывод, между прочим! Если бы ваше правительство к нему пришло, то многих бед избежали бы…
КРИСТИНА: Глеб, постой! Глеб! (бежит следом за Глебом, но Алексей удерживает её)
АЛЕКСЕЙ: Ты ничего ему сейчас не объяснишь и не докажешь.
КРИСТИНА (вырываясь): Да кто вы такой?!
АЛЕКСЕЙ: Кажется, меня уже представили. Алексей Стратонов. А ты, я полагаю, Кристина?
КРИСТИНА: Допустим…
АЛЕКСЕЙ: Ну, значит, будем знакомы. А за этим (кивает в сторону, куда ушёл Глеб) не бегай. Если душа у него чистая, то можно надеяться, что мозги рано или поздно на место встанут. И тогда он сам к тебе вернётся. А пока его Идея морочит. Страшный фантом, гасящий сознание и заставляющий убивать других и погибать самим.
ЖЕНЬКА: А у вас разве нет Идеи?
АЛЕКСЕЙ (улыбаясь): Нет, я человек безыдейный. У меня есть только Родина, совесть и свобода. И мне очень не хочется, чтобы кто-то пытался заграбастать их грязными и окровавленными руками. (взглянув на часы) Однако, довольно разговоры разговаривать. Времени у меня лишь до утра, а потому жду приглашения в дом, с которым меня связывают не буду уточнять сколько лет дружбы!
ЖЕНЬКА: Идём, конечно! Мать вам будет страшно рада!
Все трое уходят.
Сцена 5.
Лиза хлопочет у плиты. Из гостиной слышны голоса остальных домочадцев. Раздаётся звонок в дверь. Затем второй, третий.
ЛИЗА: Да что ж такое! Даже дверь в этом доме открыть некому… (вытирает руки о передник и идёт открывать)
Лиза открывает дверь. На пороге Алексей, позади которого – Женька и Кристина.
ЛИЗА (отступая на шаг): Алёша!
АЛЕКСЕЙ (улыбаясь): Хотел бы сказать «чуть свет уж на ногах», но вечерний час к тому не располагает. Простишь за внезапное вторжение?
ЛИЗА: Да проходи же! Проходи скорей! (оборачиваясь к гостиной) Папа! Лёня! Аня! Алёша приехал!
Женька аккуратно проскальзывает за спиной Алексея, надеясь укрыться от взгляда матери. Но та замечает его.
ЛИЗА: Боже мой! Женька! Да что ж это с тобой поделалось?
ЖЕНЬКА: Ничего, мать, ничего!
ЛИЗА: Да какое же «ничего»? Иди, иди я промою…
Лиза с Женькой уходят, а Алексей заходит в гостиную.
Сцена 6.
Гостиная. Виктор Викентьевич устремляется навстречу Алексею, обнимает его.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Вот, гость, которому я неизменно рад!
ЛЕОНИД (пожимая Алексею руку): И я также.
АЛЕКСЕЙ: Рад и я всегда быть вашим гостем. (кивает стоящей у окна Анне) Здравствуй, Аня!
АННА: Здравствуй, Алёша!
ЭДУАРД: Рад видеть тебя в наших рядах!
ЛЕОНИД (с усмешкой): В ваших?
ЭДУАРД: Давно приехал?
АЛЕКСЕЙ: Не так давно, как мне бы хотелось.
ЭДУАРД: Уже записался в какое-нибудь подразделение? Ты знаешь, у нас…
АЛЕКСЕЙ (садясь за стол): Я знаю.
ЭДУАРД: Ты был сегодня у ОГА? Участвовал?
АЛЕКСЕЙ: К счастью, нет.
ЭДУАРД: Отчего же, «к счастью»?
АЛЕКСЕЙ: Оттого, что не люблю участвовать в бардаке.
ЭДУАРД: Объяснись! Ты, что ли, считаешь, что не нужно было брать под контроль администрацию и вышвыривать прочь этих «онижедетей»?
АЛЕКСЕЙ: Вышвыривать – нужно. Брать под контроль – тоже. А бить стёкла и ломать, что под руку попалось – нет.
ЭДУАРД: Ну, это же естественно…
АЛЕКСЕЙ: Нет, это неестественно. Зачем брать под контроль административное учреждение? Чтобы наводить порядок. А порядок не начинается с погрома. Стёкла – они что, украинские были? Киевские? Так зачем же их бить? Вы новое государство строите или праздник непослушания празднуете?
ЭДУАРД (раздражённо): Вот, тебя не было, чтобы нас научить, как и что строить! Государство! Мы не строим государства. Мы лишь хотим, чтобы наш голос услышали!
АЛЕКСЕЙ: Кто?
ЭДУАРД: Киев! Чтобы с нами считались, чтобы нас уважали!
АЛЕКСЕЙ: Я не знаю такого сегмента отношений, как Киев. Если говорить о политике, то есть сегмент под названием Вашингтон. Есть, если угодно, Москва. Но не Киев. Если говорить об обществе, то люди – это не Киев, не Львов и не Сумы. К ним обращаться надо. Но для того, чтобы некоторые из них услышали нас сквозь непрестанную барабанную дробь пропаганды…
ЭДУАРД: Нужно грамотно организовать свою пропаганду!
АЛЕКСЕЙ: Нет. Нужно всего-навсего грамотно организовать свою жизнь. Нашу жизнь. Чтобы здесь у нас было то, за что многие наивные боролись там, но чего там нет, и никогда не будет. Человеческое достоинство, справедливость, правда… Государство для людей, а не для нелюдей! Вот, если мы сможем дать такой пример, то нас… услышат! А битые стёкла никого не убедят.
ЛЕОНИД: Ты, Алёша, неисправимый мечтатель… Кто тебе позволит строить это идеальное общество? Уже пытались до тебя, но как-то «не сраслось».
АЛЕКСЕЙ: А я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения. Нужно не спрашивать, не болтать, а делать.
ЛЕОНИД: Для того, чтобы делать – нужны люди. Заметь себе, честные, деятельные, самоотверженные. Много ли ты таких встречал? Нынче всем больше до брюха, а не до духа…
АЛЕКСЕЙ: Война это поправит.
АННА: Война? Алёша, ты это серьёзно?
АЛЕКСЕЙ: Более чем.
ЭДУАРД: Мы вовсе не собираемся устраивать войну. Да и Киев не пойдёт на это!
ЛЕОНИД (тихо): Идиот…
АЛЕКСЕЙ: Ты опоздал. Война уже началась. И остановить её уже невозможно. И от Киева здесь зависит столь же мало, сколь от нас. Они лишь ничтожные исполнители… Вассалы, которые не замедлят исполнить любую прихоть сюзерена, платя чужой кровью за свои наворованные «бабки». А мы будем обороняться. Потому что народ уже проснулся, разгорячился и готов защищать своё право… Ты ведь сам призывал к этому, разве нет?
ЭДУАРД: Ты, стало быть, воевать приехал? Всерьёз и надолго?
АЛЕКСЕЙ: Нет, что ты. Я приехал могилку матери навестить да поудить рыбку.
ЭДУАРД: Я тебя разочарую, Алёша. Войны не будет.
АЛЕКСЕЙ: Вот как?
ЭДУАРД: Нам сейчас нужно просто потянуть время. Да, отдельные эксцессы могут иметь место. Да, мы должны иметь свою самооборону, чтобы продемонстрировать свою готовность идти до конца. Но это не война. Мы затянем время и будем давить на Киев с помощью Москвы. А там как-нибудь сторгуемся, выторгуем себе необходимую нам автономию, да и дело с концом!
Алексей некоторое время задумчиво смотрит на Эдуарда.
АЛЕКСЕЙ: Не путай народно-освободительную борьбу со своим магазином. С кем и чем ты собрался торговать? С убийцами кровью убитых? Нет, Эдичка, кровь – это не предмет купли-продажи! И война – не базар! И люди жертвуют жизнями не за то, чтобы где-то там кто-то о чём-то сторговался, а за то, чтобы жить в другой стране! Я не географию, не название имею ввиду, а саму суть! Ты думаешь, что парни, берущие сейчас в руки автоматы, собираются сражаться за какие-то там «права», прописанные шулерами в «филькиной грамоте»? Или за перемену Киева на Москву? Нет! Не так! Мы хотим, чтобы жизнь после войны стала иной! Мы сражаемся не против каких-то там имяреков, а против клептократии, удушающей всё живое! За миритократию – то бишь власть достойных! Сильных, честных, разумных и способных, а не серых, бездарных и вороватых!
ЭДУАРД: Это лишь недостижимый идеал, которого нигде никогда не было и не будет!
АЛЕКСЕЙ: Любая борьба вдохновляется идеалом.
ЛЕОНИД: Которым потом торгуют оптом и в розницу торгаши…
АЛЕКСЕЙ: А вы предпочитаете бороться за лишнюю коврижку к завтраку?
ЛЕОНИД: Я вообще предпочитаю ни с кем не бороться. Уж больно затратное занятие. А, вот, Эдичка за свою коврижку поборется! Ещё как!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: А я… согласен с Алексеем.
АННА: Вот как?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: «Воины жизни, сражайтесь твёрдо и не уставайте верить в победу. Победу одерживает тот, чей глаз неустанно смотрит на неё. Кто думает о поражении, тот победу теряет из виду и больше не находит её!» Это не я сказал. Святитель сербский Николай.
АЛЕКСЕЙ: Прекрасное напутствие. Я запомню его.
ЭДУАРД: Победа может быть разной!
АЛЕКСЕЙ: Ничуть. Победа всегда одна. Торжество правды и порядка. Торжество народа. Всё прочее – суррогаты и ложь.
ЭДУАРД: Одна… Ну да, слышали. «Мы за ценой не постоим»?
АЛЕКСЕЙ: Напротив. Цена весьма важна. Победы, достигаемые уничтожением своего народа, это не победы. И мы не имеем права воевать так, как это было семьдесят лет назад. Наши силы и без того истощены до предела за последний век… Сберечь, сберечь силы – вот, наша задача! Сберечь жизни… Солдат, мирных людей – всех. Из них каждая – драгоценна. И эти жизни не средство для затяжки времени и не предмет для торга!
ЭДУАРД: Вот, такие фанатики и ввергают общество в бессмысленные войны!
АЛЕКСЕЙ: Нет, в бессмысленные войны человечество ввергают весьма хладнокровные и рассудительные люди, для которых эти бойни имеют весьма конкретный смысл, выражаемый в денежном эквиваленте. А мы лишь хотим сломать эту человеконенавистническую машину, пока она не испепелила всю землю своей жадностью.
ЛЕОНИД: Только-то? Эх, Алёша, боюсь, ты не отрок Давид, и Голиаф тебе не по зубам.
АЛЕКСЕЙ: На всё Божья воля. Но скажите лучше, что хотите вы? Сторговаться и остаться субъектом страны 404?
ЭДУАРД: Я реалист, Алёша. Митинговые лозунги – это одно, а политика – другое. Мы останемся частью Украины, нравится нам это или нет, но на правах автономии.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: В твоей реальности, зять, есть одна существенная прореха, которая делает её всю совершенной иллюзией.
ЭДУАРД: Что же это за прореха?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Украина никогда не была и не будет государством.
ЭДУАРД: Слишком категорично.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Это всего лишь исторический факт. Что представляла собой Украина, если отбросить ненаучную фантастику о вырывших Чёрное море древних украх?
ЛЕОНИД: Сечь…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Сечь. Разнузданная вольница, метавшаяся от поляков к России. Сейчас поляков заменили Штаты – только и всего. Поймите, украинская государственность сама по себе противоестественна. Эта нелепая идея, этот вирус был выращен в пробирке Австро-Венгрии в 19-м веке и начал постепенно отравлять сперва запад Украины, а затем и центр её. Химеру украинства разоблачали лучшие наши умы: Мончаловский, Стороженко, Яворский (галичанин по рождению!), Меньшиков, Кулиш… Кулиш был настоящим казакофилом, малороссом, патриотом Украины! Но в отличие от пьяницы Шевченко этот мудрейший человек прекрасно понимал, что именно Московская Русь сохранила духовное наследие погибшей Руси Киевской и только Империя обеспечила процветание и самоуважение украинского народа. В своём стихотворении «Национальный идеал» он, между прочим, писал:Уставши з попелів козацької руїни,
Кликнімо до синів слов’янської родини:
Топімо ж у Дніпрі ненависть братню дику,
Спорудьмо втрьох одну імперію велику,
І духом трьох братів освячений диктатор,
Нехай дає нам лад свободи імператор.Великий Гоголь осуждал самостийные устремления Шевченко, понимая всю опасность этого вируса. Российская Империя, кстати, не осознала вполне этой угрозы. И свой съезд украинские самостийники в начале 20-го века проводили не где-нибудь, а в Москве!
ЛЕОНИД: Уже тогда кабак был…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Да, уже тогда. (подходит к книжному шкафу, не переставая говорить) И один из наших светлейших умов Лев Тихомиров обличил это безумное попущение, назвав величайшими преступниками против России тех, кто старается разъединить нашу единую русскую нацию в пользу нации сочинённой. (снимает с полки книгу и, раскрыв заложенную страницу, читает) «Это деяние, подрывающее творческую способность всех ветвей Русского народа. Допускать такое могут только люди бедные чувством, политическим разумом и любовью к культуре. В этом понижении мы и упрекаем тех русских, которые равнодушно допускают сочинение «украинской национальности». Особой украинской нации от этого не возникнет, но русская нация может быть ослаблена, подорвана, ее развитие может быть приостановлено. Вот в чем виноваты пред Россией те, которые занимаются игрушками «украинства» и допускают их радушный прием. И потому-то духовное падение Москвы ни в чем, даже в юдофильстве, не сказывается постыднее, чем в радушном приюте у стены Кремля организуемых поляками «украинских секций»». (захлопывая книгу) Так он писал! Но не услышали, как повелось у нас! А дальше покатилась гражданская война… Петлюра, большевики, Махно… Разнузданные вольницы, проливающие реки крови и творящие всевозможные бесчинства. А товарищи большевики сделали всё, чтобы узаконить вирус из австро-венгерской пробирки. Они же всеми силами развивали национальные самосознания всех племён, гася его лишь в одном – русском народе, объявленного «поработителем». Товарищ Сталин на одном из съездов так и говорил: что тех, кто не хочет украинизироваться, тех надо заставить. И заставляли, и взращивали! А в Отечественную столкнулись с УПА, в которой вирус уже достиг своего полного развития. И старым лагерникам, встречавшим эту публику, уже ясно было, что процесс необратим, что раскол неизбежен… И, вот, пришли к нему без малого четверть века назад. И как пришли! Русские исконно области – подарили в кормление Галичине! Донбасс – это не Новороссия даже! Луганск и Донецк исторически входили в Таганрогский округ Области Всевеликого Войска Донского. Лишь произволом товарища Ленина и его наследников наши земли оказались прирезаны Украине, а после оставлены ей при пьяном сговоре… И все эти годы Россия палец о палец не ударила, чтобы обуздать гидру, чтобы найти вакцину. Наоборот! Опять-таки вся эта самостийщина проводила свои мероприятия в Москве, а российские послы обращались здесь к русским людям «шановии панове». Но даже за эти годы государства не состоялось. Даже несмотря на то, сколько плодородных земель и природных ископаемых ему осталось! Образовалось гуляйполе с ежегодными майданами, пытающееся получить «гроши» и с запада, и с востока и перехитрить всех. Перехитрили в итоге себя. Украина распадётся – это неизбежно. Но этому будет предшествовать страшная кровопролитная война, которая, прав Алексей, уже началась. И ты, Эдуард, напрасно думаешь, что Киев остановится. Они уже не могут остановиться. У них тормозная система отказала. И скоро вместо «онижедетей» на нас хлынут вооружённые полчища…
ЖЕНЬКА (входя в комнату и усаживаясь к столу): И обретут здесь братскую могилу! Уж мы им покажем! Заскачут они у нас!
ЛЕОНИД (давая племяннику лёгкий подзатыльник): Смотри, как бы самому скакать не пришлось… Алексей, ты умный человек. Ты всерьёз считаешь, что мы должны воевать?
АЛЕКСЕЙ: Да. Потому что народ остаётся народом до тех пор, пока готов сражаться и умирать за свою честь и за свою свободу. В противном случае он становится навозом для произрастания народов иных.
ЛЕОНИД: Прости, но я не могу разделить твоего воинственного пыла. Давайте посмотрим на ситуацию трезво. Если Киев пойдёт на Донбасс войной, то у него будет целая армия, не ограниченная в призыве новобранцев. У него будет оружие…
ЖЕНЬКА: Ржавое!
ЛЕОНИД: Ржавое. Но оно будет. И надо думать, что кураторы пришлют дополнительное – поновее и помощнее. Что мы можем противопоставить этому? Нашу честь? Нашу отвагу? Наши благородные мечты? И сколько-то автоматов и гранатомётов с ограниченным числом боеприпасов? Нас просто раздавят, Алёша!
АЛЕКСЕЙ: Я надеюсь, что Россия не оставит нас без помощи.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Надеешься на «вежливых людей»?
АЛЕКСЕЙ: Хотя бы на оружие. С остальным как-нибудь разберёмся сами.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Сами… Это правильно. Мой отец, когда я был ещё мальчишкой, говорил мне: «Если вступаешь в драку с большими парнями, то будь готов дать отпор сам, не ожидая, что на выручку придёт старший брат».
ЛЕОНИД: Чистое безумие… Я уже сказал, что будет в этом случае.
АЛЕКСЕЙ: Предпочитаешь покорно склонить голову и позволить этой нечисти здесь заправлять?
ЛЕОНИД: Предпочитаю худой мир доброй ссоре.
АЛЕКСЕЙ: Это трусость!
ЛЕОНИД: Это реализм.
ЛИЗА (входя): А мне кажется, что реализм может быть разный. Реализм земли и реализм неба. Христос взошёл на Голгофу во имя народа. Разве не безумие? Сонмы святых шли на муки во имя Божьей Правды. Ещё совсем недавно шли. Меньше века назад. Разве не безумие? Воины шли в бой против многократно сильнейшего противника во имя своей Родины, своего народа, своей чести. Разве не безумие? Но благодаря этому безумию, ещё живёт этот мир. Что было бы, если бы все стали такими мудрыми, как ты, Лёня? Никто не подал бы руки падающему, не затупился за убиваемого, не защитил поругаемую святыню, не вступил в борьбу против злобы и лжи… Лёня, представь себе, на что бы стал похож наш мир! Ведь равнодушие страшнее физической смерти! И ведь оно всё равно не спасёт! Как не спасло премудрого пескаря в известной сказке. Как не спасло многих надеявшихся схорониться в Гражданскую войну. Наши пути отмеряны, всем нам раньше или позже предстоит встреча с Господом Богом. Так, может, стоит следовать реализму небесному, Им завещанному, а не реализму пыли и праха, которые сегодня есть, а завтра нет?
АЛЕКСЕЙ: Отлично сказано!
ЭДУАРД (пожимая плечами, негромко): Экзальтация какая-то…
ЛЕОНИД: Не скажу, что вы двое меня убедили. Ты знаешь, Лиза, я не очень-то верю в небесные реализмы… (покосившись на Эдуарда) Но от реализма зелёного бакса испытываю тошноту. А потому готов уважать ваше безумство храбрых.
ЛИЗА: Я, вообще-то, пришла сказать, что, пока вы спорите, ужин уже стынет.
ЖЕНЬКА: О! Это дело! (спешит мимо матери на кухню)
Остальные также тянутся вслед за Женькой.
Сцена 8.
Гостиная вечер. Полумрак. Алексей сидит на диване, опустив голову. Входит Анна. Алексей резко поднимает голову.
АЛЕКСЕЙ: Спасибо, что пришла.
АННА: Что ты хотел, Алёша?
АЛЕКСЕЙ (качнув головой): Ничего… Просто увидеть тебя не в «мельканье лиц».
АННА: Зачем? Я думала, ты уже забыл…
АЛЕКСЕЙ: Моя память никогда не была короткой. Не знаю уж, хорошо это или худо. Для меня скорее второе. Завтра я уеду и, возможно, мы больше не увидимся. Обещаю, что мой призрак также не будет тебя тревожить. Но напоследок мне всё-таки хочется понять, почему?
АННА: Что «почему»?
АЛЕКСЕЙ: В мельканье лиц одно лицо
Мне не даёт давно покоя.
Угомонит ли смерть свинцом
Мой гордый дух в разгаре боя,
Загонит ли судьба на край
Земли, наденет ли оковы,
Покину ад, отвергну рай,
Чтоб этот взор увидеть снова.
АННА: Хватит…
АЛЕКСЕЙ: Я знал, что ты помнишь эти строки.
АННА: Зачем ворошить прошлое. Судьба сложилась так, как сложилась, и тут уже ничего не изменишь!
АЛЕКСЕЙ: А ты бы хотела изменить?
АННА: Ничего нельзя было изменить уже тогда!
АЛЕКСЕЙ: Всё можно было изменить! Человек сам выбирает свою судьбу! И ты выбрала… Покой и достаток…
АННА: Да. С Эдуардом мне спокойно. Я знаю, что наши дети вырастут в достатке и стабильности, что бы ни случилось.
АЛЕКСЕЙ: Даже если для этого твоему мужу придётся пойти по трупам…
АННА: Мой муж, Алёша, обо мне заботится, а ты…
АЛЕКСЕЙ: А я?
АННА: Стихи и песни хороши для романтических свиданий. И мне было хорошо с тобой. Как ни с кем и никогда! Это правда. Но жизнь длиннее, чем эти свидания… И в ней нужно жить, думать о завтрашнем дне не только своём, но своих детей. А не мечтать о том, чего никогда не будет! Если бы ты мог измениться…
АЛЕКСЕЙ: Тогда бы это был не я.
АННА: Тогда не говори о любви. Чего ты хотел? Рая в шалаше? Так, вот, в шалаше рая не построишь! Он неминуемо обратится в ад…
АЛЕКСЕЙ: Рай, Аня, не подаётся, как горячий кофе в постель. Чтобы его получить, нужно с этой постели подняться и положить очень много пота и крови. А, самое главное, сердца.
АННА: Я не раскаиваюсь в своём выборе. Я замужняя женщина, мать двоих детей, мой муж – уважаемый человек… Сколько он успел за эти десять лет!
АЛЕКСЕЙ: Поддержать три власти, если я не сбился со счёта.
АННА: А ты?! Что делал ты все эти годы?! Господи… ты мог бы быть кем угодно! С твоим умом, твоим талантом! А ты?!
АЛЕКСЕЙ: А я… Добрых три десятка городов сменил и дюжину профессий…
АННА: Работал на автомойке, как я слышала!
АЛЕКСЕЙ: А ещё маляром-штукатуром… Электриком… Сторожем… Шахтёром тоже, кстати, успел. Хотя и недолго.
АННА: Хватит! Стыдно слушать…
АЛЕКСЕЙ: В самом деле? Чем тебе шахтёры не угодили?
АННА: Да разве всё это было для тебя? Это же… для простых людей, которые ни к чему большому не способны… Но ты!...
АЛЕКСЕЙ: А я и есть простой человек. Такой же, как и все. Один из моего народа. И не нужно смотреть на нас свысока. Да, шахтёры, строители – люди простые. Университетов не заканчивали, умных книжек за редким исключением не читали. Да, вот, только они люди, Аня! И души в них живые! И совесть для них не пустой звук. А иной из этих простых людей куда как более здраво судит, чем наши бессовестные разумники. В Киеве небось публика интеллигентная! Высокодуховная, как они себя рекомендуют! И что? Что устроила эта публика? Всемирное позорище… Превратили страну в копеечную проститутку с трассы и гордятся этим! А наша тутошняя «интеллигенция» вроде мужа твоего? До сих пор думают, что они, как обычно, поторгуются, сговорятся и шабаш! А паренёк простой, из шахты света белого не видящий, глянув на это всё, сразу просёк: быть войне!
АННА: Я думала, ты умнее…
АЛЕКСЕЙ: А я, прости, дурак. Ну, так дураков на Руси любят. И им, говорят, везёт.
АННА: Что-то тебе не больно свезло… Обидно мне за тебя, Алёша…
АЛЕКСЕЙ: Значит, не достаточно придурковат, раз не больно. А обижаться за меня не стоит. Я всю свою жизнь был свободен и ни от кого не зависел, а это дорогого стоит. И жизнь свою я сам выбрал, а это тоже важно.
АННА: И меня потерять – ты тоже сам выбрал?
АЛЕКСЕЙ: А я тебя не терял, Аня. Ты всегда со мной. В моём сердце, в моих стихах… Во снах… Это ты меня потеряла. И это твой выбор.
АННА: У меня не было выбора. Ты не оставил.
АЛЕКСЕЙ: Выбор есть всегда. Стихи и душу на хлеб не намажешь, это правда. Но тогда, десять лет назад, твои глаза сияли, твоё лицо светилось улыбкой. А сейчас в твоих глазах осень, а в уголках губ залегли морщины…
АННА: Я стала старше.
АЛЕКСЕЙ: Не ты. Твоя душа. Запертая в клетку с фальшивой позолотой… Мне жаль тебя… Ту, которую я помню…
АННА (раздражённо): Ты получил ответ на своё «почему»?
АЛЕКСЕЙ: Я его знал…
АННА: Что-то ещё?
АЛЕКСЕЙ: Да. Я хочу, чтобы ты знала, что для меня ничего не изменилось. И если однажды ты решишься изменить свою жизнь, то нет ничего невозможного.
АННА: Я не хочу менять свою жизнь, Алёша! И я тоже хочу, чтобы ты это понял! Спокойной ночи! (уходит)
АЛЕКСЕЙ (негромко): А менять… всё-таки придётся… Нам всем… (поднимается и уходит в другую сторону)
Сцена 9.
Кухня. Лиза моет посуду. Входит Алексей.
АЛЕКСЕЙ: Всё-таки есть что-то незыблемое. Ты в хлопотах, и весь остальной дом, изображающий бар на курорте! (подаёт ей тарелки) Давай помогу.
ЛИЗА: Не нужно. Ты же гость!
АЛЕКСЕЙ: Хороший гость всегда поможет хозяйке. И потом здесь, кажется, все гости…
ЛИЗА: Аня занята с детьми, Лёня…
АЛЕКСЕЙ: Вот, только не надо оправдывать чужого свинства! Ни в чём не надо и никогда! Ты работаешь в больнице целыми днями, у тебя сын, а ты, как рабыня, тащишь на себе весь дом.
ЛИЗА: Женька уже взрослый.
АЛЕКСЕЙ: Когда он был ребёнком, всё было так же. Думаешь, я не помню, как ты одна надрывалась, когда умирала твоя мать? Никто к ней не подходил. Ни Лёня, ни Аня, ни твой отец…
ЛИЗА: Я врач, поэтому…
АЛЕКСЕЙ: Поэтому никто не мог подежурить возле больной, кроме тебя? Сейчас уже ночь. Утром тебе в больницу. В город. Полтора часа пути. И вместо того, чтобы спать, ты вкалываешь на кухне…
ЛИЗА: Ты поссорился с Аней, верно?
АЛЕКСЕЙ (передавая ей последние чашки и садясь на подоконник): Слышала?
ЛИЗА: Нет. Просто догадалась…
АЛЕКСЕЙ: Ты всегда обо всём догадывалась, маленькая сестра.
ЛИЗА: Это несложно… Маленькая сестра столько раз прибегала к озеру вместо старшей, чтобы сказать тебе, что она не придёт…
АЛЕКСЕЙ: А потом сидела рядом и пыталась развлечь меня какой-нибудь забавной беседой…
ЛИЗА: Это плохо выходило. Ты отвечал невпопад, и лицо у тебя было совсем, как сейчас…
АЛЕКСЕЙ: В самом деле?
ЛИЗА (убирая посуду и садясь на стул напротив Алексея): Да…
АЛЕКСЕЙ: Я закурю, можно?
ЛИЗА: Кури. Я ведь всегда тебе разрешала…
АЛЕКСЕЙ (закуривая): Десять лет я здесь не был… В этом доме… Не видел всех вас… А словно не уезжал. Только Женька большой стал.
ЛИЗА: И у Ани уже двое детей. Правда, ты их не видел. Аня рано их укладывает…
АЛЕКСЕЙ: Она изменилась… И не выглядит счастливой…
ЛИЗА: Счастье – вообще, предмет мало кому доступный. А с таким человеком, как Эдуард, вряд ли можно быть счастливой.
АЛЕКСЕЙ: Но он же заботиться о ней, разве нет?
ЛИЗА: Заботится. Как о своей машине. Своём костюме. Любой своей вещи.
АЛЕКСЕЙ: Гнилой человек… Твой брат большой циник и хороняка, но… не гнилой. А этот…
ЛИЗА: Лёнечка его терпеть не может. И это взаимно.
АЛЕКСЕЙ: Чудесно, хоть в чём-то мы совпали с твоим братом!
ЛИЗА: Я думаю, вы в большем совпадаете… Лёнечка меньший циник, чем старается казаться, уверяю тебя.
АЛЕКСЕЙ: Ладно, оставим твою родню. Поговорим, наконец, о тебе. Как ты живёшь, маленькая сестра?
ЛИЗА (пожимая плечами): Просто живу. Очень-очень просто. Больница, сын, дом. На пустые мысли времени не остаётся… Кстати, в нашей больнице заведующий нашего отделения тоже думает, что война неизбежна. Он организует мобильный медицинский отряд для оказания помощи раненым, в том числе и в боевых условиях. Я, наверное, запишусь.
АЛЕКСЕЙ: Ваш доктор мудрый человек. Медики скоро очень понадобятся…
ЛИЗА: Чем всё это кончится, как ты думаешь?
АЛЕКСЕЙ: Нашей победой, разумеется!
ЛИЗА: Воин жизни, верящей в победу… И какова она – эта победа?
АЛЕКСЕЙ: Новороссия обретёт свободу и войдёт в состав России. Нынешняя война станет толчком к пробуждению русского самосознания, к пробуждению человека вообще, его самостояния! Мы научимся быть самостоятельными, защищать наши права, строить свою жизнь. И это повлечёт за собой коренные изменения во всём обществе, уже в самой России. Новороссия станет отправной точкой для строительства новой России. Прообразом будущей России! Где люди вспомнят свои корни и будут уважать самих себя, и их будут уважать вне зависимости от достатка и положения. Вот, наша цель! И рано или поздно мы её достигнем!
ЛИЗА: Это мечты поэта или политическая стратегия?
АЛЕКСЕЙ: Это мечты, которые перековываются в стратегию. В основе любой позитивной стратегии должна лежать большая высокая идея-мечта. В противном случае это будет лишь коммерческий план. А коммерческий план хорош для какого-нибудь ЗАО или ОАО, но не для государства.
ЛИЗА: Я думаю, у тебя бы получилось. Вот только…
АЛЕКСЕЙ: Что?
ЛИЗА: Страшно мне. За Женьку… За тебя… За папу… За этого мальчика Глеба.
АЛЕКСЕЙ: Мне жаль таких, как Глеб. Их в общем-то правильный порыв покончить с беспределом ушлые ребята направили в нужное русло, развернули от настоящих врагов на себе подобных – на нас. Заставили свергать одних воров и мерзавцев во имя торжества других. А теперь во имя этого же торжества заставят убивать – вчерашних друзей и родных… Вот, когда бы удалось достучаться до них, сменить этот вектор! Вот, тогда бы совсем другой расклад получился.
ЛИЗА: Ты считаешь это возможным?
АЛЕКСЕЙ: Не знаю. Хочу верить, что возможно. И знаю, что нужно пытаться. Иначе мы будем обречены топить друг друга в крови на радость наших общих врагов, которым не нужны ни мы, ни они, а нужна именно бойня, в которой русские убивали бы русских… Бойня вместо совместного устроения народного государства, которого кукловоды так боятся.
ЛИЗА: Это и страшно.
АЛЕКСЕЙ: Ничего. С нами Бог и Правда, а значит мы всё равно победим! (пауза) Ладно, Лиза, у тебя уж глаза слипаются. Да и мне вставать на рассвете. (поднимается с подоконника) Простимся сейчас.
ЛИЗА (вставая): Храни тебя Бог, Алёшенька!
АЛЕКСЕЙ (обнимая её): Береги себя, маленькая сестра! До встречи!
ЛИЗА: До встречи, Алёша! (уходит)
АЛЕКСЕЙ (подходя к окну и опираясь о него ладонью): Вся жизнь кругами по воде…
Осколки непрожитых былей…
Борьба бессмысленный идей,
И бой извечный неба с пылью…
Налиты кровью облака,
Гудят отчаянно набаты.
А жизнь беспечна и легка,
Пьяна от водки и разврата…
Идут безумные торги.
Играет дьявол головами.
Вновь братья – кровные враги,
Пути исчерчены крестами.
Крестами близких и друзей,
Которых публика не вспомнит.
Ей мил паяц и лицедей,
А Человек сердец не тронет.
И мой поднимется там крест.
Судьба отмерена до дюйма…
Ну что ж… Была бы только честь…
Летите прочь, ночные думы!
Я выбрал смерть, как Гумилёв.
Почти божественное право!
Ты слышишь, Боже? Я готов!
Подай лишь сил солдатам Правды!
А кто любил, пускай простит
И вместо слёз продолжит битву.
Настанет день, и озарит
Всё свет исполненной молитвы…
Акт 2.
Сцена 1.
Дом Лохвицких. Гостиная. Работает телевизор. Виктор Викентьевич сидит перед ним, ломая пальцы.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Тактика выжженной земли… Их кураторы не знают иной, и они тоже… Они уничтожат всё, если их не остановить…
ЛИЗА (входя, взволнованно): Проспала… Папа, ну, что? Что ТАМ?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ (выключая телевизор): Там – ад. А здесь… Публичный дом… Все играют в «политику», а люди гибнут.
ЛИЗА (садясь рядом): Эдичка до сих пор верит в возможность договориться. Даже после Одессы верит…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Мой зять идиот, как это ни печально… Впрочем, он всего лишь выражает надежды своего патрона, чьи активы он охраняет с преданностью и рвением бульдога. Они думают, что Гражданская война – это то же, что драка крупных феодалов, магнатов. Собрали вассалов и холопов, подрались немножко, затем переделили всё, договорились и отослали холопов по домам. Вот, только про народ они забыли – с одной стороны. И про тех, кто стоит за самими магнатами – с другой. Марионетки, которые изображают из себя вождей и хозяев… Ничтожества…
ЛИЗА: Как страшно всё… Знаешь, папа, я за всю жизнь не просыпалась в таком страхе, не включала телевизор с такой дрожью в руках…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Это пока лишь цветочки. Я бы даже сказал, бутоны. Скоро весь этот ад придёт сюда.
ЛИЗА: После Одессы мне казалось, что ничего более жуткого просто не может быть. Откуда всё это взялось? Такая невообразимая жестокость? Одни изуверы убивают невинных людей, а другие выкладывают фотографии убитых, глумятся над ними и славят убийц. Глумятся даже над убитыми детьми и их матерями… Личинки колорада, самки колорада… Это пишут даже женщины! Даже матери! По-моему, это даже страшнее самого преступления… Не вмещается в голове!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Когда большевики пришли в Киев, то сперва подвергли его бомбардировкам, а затем произвели массовые аресты «бывших людей». Большую их часть согнали в городской парк, и там расправились над ними с большой жестокостью. Над телами глумились… Потом в этот сад стали приходить родные, ищущие своих мертвецов. Убийцы смеялись над ними, указывали полумёртвым жёнам на смертный оскал того или иного покойника: «Не твой ли милый тебе улыбается?!» Сейчас с развитием техники принять участие в подобной «забаве» стало можно дистанционно – всем психопатами и выродкам. И это становится жуткой нормой жизни… Стало ли жестокости больше? Не думаю. Зверства большевиков, фашистов, бандеровцев ничем не отличались от зверств нынешних тербатов, правосеков и прочей бесовщины. Вот, только не было прежде такого страшного оружия, как сейчас. И не было интернета, чтобы каждый отморозок мог посмаковать чужие муки…
ЛИЗА: Мечтатели прошлого думали, что человечество, благодаря достижениям цивилизации, станет более гуманным. А оно всё больше звереет…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Оно идёт, как ему предсказано. В объятия Зверя… Наш мудрец Аксаков говорит, что совлёкший себя образ Божий неминуемо возалчет о Зверином. Большая часть человечества этот образ давно совлекла. А свято место пусто не бывает. И если в душе человеческой престол не занят Богом, его займёт антипод. Что мы видим. А достижения цивилизации ничего не дадут человечеству, если человеческое сердце будет зло и лживо… Только модернизированные дубинки, чтобы лупить друг друга.
Входит потрясённая Анна, а следом Кристина.
Сцена 2.
Те же и Анна.
ЛИЗА: Что-то случилось?
АННА: Мне сейчас позвонил Максим… Тётя Соня погибла…
Виктор Викентьевич крестится.
ЛИЗА: Как?!
АННА: Вчера обстреляли Луганск. Погибло несколько человек, и среди них – наша тётя Соня… Подъезд, в котором она жила, разрушен.
КРИСТИНА: Как это… нелепо…
ЛИЗА: Что «нелепо»?
КРИСТИНА: Она же поддерживала майдан. Последнее время даже не хотела с нами общаться, ругала сепаратистами… Собиралась уехать в Чернигов к подруге… И вдруг погибла.
ЛИЗА: Бомбам всё равно, кого убивать.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Дом разнесло. Вода струями хлещет
Наружу из водопроводных труб.
На мостовую вывалены вещи,
Разбитый дом похож на вскрытый труп.
А на вещах - старуха с мертвым взглядом
И юноша, старухи не свежей.
Они едва ли не впервые рядом
Сидят, жильцы различных этажей!
Теперь вся жизнь их, шедшая украдкой,
Открыта людям. Виден каждый грех...
Как ни суди, а бомба - демократка:
Одной бедой она равняет всех!
ЛИЗА: Да уж… Бомба – демократка…
КРИСТИНА: Чьи это стихи?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Дмитрия Кедрина. Написаны более 70 лет назад…
КРИСТИНА: Он погиб?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Да, в 45-м году.
КРИСТИНА: В бою?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Нет, уже в мирное время. Его сбросили с поезда. По-видимому, сотрудники известного ведомства. Преступление до сих пор считается нераскрытым. (кивая на шкаф) Там у меня на полке книжица с его стихами. Возьми, почитай. Это величайший поэт ХХ века.
ЛИЗА: И любимый Женькин поэт. Никогда не могли его заставить серьёзно читать, но эту книжицу я у него часто видела… Вот, ещё наказание… Вторую ночь не ночует дома… Где он, спрашивается?
ЖЕНЬКА (входя): Я здесь.
Сцена 3.
Те же и Женька, одетый в камуфляж с георгиевским шевроном на рукаве.
ЛИЗА (поднося руку к груди и устремляясь навстречу сыну): Женя… Что это… Как…
ЖЕНЬКА: Не волнуйся мама, я записался в ополчение. Вот, зашёл проститься…
ЛИЗА: Проститься?
ЖЕНЬКА: Мы уезжаем. Сперва пройдём краткий курс боевой подготовки, а потом…
ЛИЗА (выдыхает): …на фронт…
ЖЕНЬКА: На фронт.
АННА: Ты с ума сошёл! Какой фронт?! Тебе едва исполнилось восемнадцать! Ты ещё мальчишка!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Прекрати, Аня. Твой дед и сотни тысяч таких мальчишек в 41-м также уходили.
АННА: Тогда было другое время!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Времена одинаковы всегда. А, вот, мальчишки измельчали. Многие мажоры уже дёру задали и в беженцы записались. Я рад, что мой внук не из их числа.
АННА: И это вместо того, чтобы остановить его! Из 10 мальчишек ушедших в 41-м сколько вернулось?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Мой отец вернулся. И мой внук вернётся.
АННА (обращаясь к Лизе): Ну, а ты? Ты что молчишь? Или тоже рада?!
ЛИЗА: Я… не могу быть рада, но на месте моего сына я поступила бы также…
АННА (разводя руками): Вы все сумасшедшие! Женечка, ну, скажи мне, пожалуйста, тебе это зачем? У тебя вся жизнь впереди! Зачем лезть под пули?!
ЖЕНЬКА: Дед тут стихи читал, я слышал. Ну, так я тоже прочту. Из той же книжки, чтоб понятнее было, зачем.
Над проселочной дорогой
Пролетали самолеты...
Мальчуган лежит у стога,
Точно птенчик желторотый.
Не успел малыш на крыльях
Разглядеть кресты паучьи.
Дали очередь - и взмыли
Вражьи летчики за тучи...
Все равно от нашей мести
Не уйдет бандит крылатый!
Он погибнет, даже если
В щель забьется от расплаты.
В полдень, в жаркую погоду
Он воды испить захочет,
Но в источнике не воду -
Кровь увидит вражий летчик.
Слыша, как в печи горячей
Завывает зимний ветер,
Он решит, что это плачут
Им расстрелянные дети.
А когда, придя сторонкой,
Сядет смерть к нему на ложе, -
На убитого ребенка
Будет эта смерть похожа!
АННА: А в простоте можно на простой вопрос ответить?
ЖЕНЬКА: Можно. Вчера в новостях показали убитую девочку. Ей было три года. Она просто шла по улице с матерью, когда начался обстрел… Осколок пронзил её насквозь. У неё тоже была впереди вся жизнь. Но её убили. Так, вот, я не хочу сидеть на диване и вести интернет-войны, когда твари убивают детей. Пальцами по «клаве» путь женщины и инвалиды стучат, а для пальцев мужчины найдётся оружие более серьёзное! Иначе я просто не смог бы считать себя человеком…
АННА: Считать себя человеком! Такое чувство, словно Алёшу слышу!
ЖЕНЬКА: Если повезёт, у него служить буду…
Анна разводит руками и уходит.
ЛИЗА: Не сердись на неё, она просто переживает… Ты… всё правильно делаешь, Женя. И, как бы мне ни было сейчас тяжело, я горжусь тобой. Об одном прошу: не позволяй ненависти захватить себя. Помни, что среди тех, кто сражается по другую сторону, тоже есть люди. Есть даже те, кого мы знали и любили ещё совсем недавно. Что бы ни было, мы всегда должны оставаться людьми. Иначе незаметно для себя превратимся в тех, против кого сражаемся.
ЖЕНЬКА: Я постараюсь, мама. И я вернусь! (обнимает мать)
Лиза крестит сына, чуть слышно сквозь слёзы шепча молитву. Подходит Виктор Викентьевич, также обнимает Женьку.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Храни тебя Бог, внук. Если бы ты поступил иначе, мне было бы стыдно. Так же, как теперь стыдно за моего сына и моего зятя.
ЖЕНЬКА (весело): Дед, я не подведу!
Женька подходит к Кристине.
ЖЕНЬКА: Ну, до свидания, Мышь. Хоть мы с тобой всю дорогу и собачились, но я тебя всё равно люблю, как сестру.
Кристина порывисто обнимает Женьку.
КРИСТИНА: Береги себя! Мы тебя все будем ждать!
Женька целует её в щёку, полушутя отдаёт честь всем присутствующим.
ЖЕНЬКА: Берегите и вы себя! Я буду вам звонить, когда смогу.
Женька уходит.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ (погладив по плечу поникшую Лизу): Он вернётся, Лиза. Непременно вернётся.
Виктор Викентьевич уходит.
Сцена 4.
Те же.
КРИСТИНА (опускаясь на поручень кресла): Что же, выходит, Женька с Глебом теперь друг в друга стрелять станут?
ЛИЗА (вздрогнув): Будем надеяться, что их пути не пересекутся там… (оборачиваясь к Кристине) Ты любишь его?
КРИСТИНА: Кого?
ЛИЗА: Глеба.
КРИСТИНА: Не знаю… Наверное… (пауза) Два года я мечтала, что он приедет и увезёт меня. А когда он приехал, я не смогла с ним уехать. Потому что он стал другим…
ЛИЗА: Тебе так плохо у нас?
КРИСТИНА: А что же хорошего? На меня же здесь всем наплевать! Виктор Викентьевич лишь изредка удостаивает меня рекомендаций каких-нибудь книг…
ЛИЗА: Которых ты принципиально не берёшь в руки…
КРИСТИНА: Потому что мне противно! Когда мне на них свысока указывают! Мол, вон, поучись, малограмотная!
ЛИЗА: Ты не должна обижаться на папу. Он всегда таким был. Когда мы задавали ему какие-то вопросы в детстве, он снимал с полки книгу и давал нам. Говорил, что ему никто ничего не разжёвывал, но он узнавал сам – из книг. И, благодаря им, стал крупным учёным…
КРИСТИНА: С людьми разговаривать надо, а не носом их тыкать: прочти, посмотри… Вы сами-то читали?
ЛИЗА: Мы с Аней от случая к случаю, а Лёня исправно. Поэтому-то и преподаёт теперь в институте, и диссертацию защитил.
КРИСТИНА: И от жизни бежит больше, чем другой от смерти. Всё вашего брата утомляет, всего он боится… Даже женщин!
ЛИЗА: У всех свои недостатки…
КРИСТИНА: Недостатки… Я здесь для всех, как урод какой-то, приживалка… Анна меня только что терпит. Отцу вообще наплевать…
ЛИЗА: Да, мы, наверное, не были для тебя идеальной семьёй. Но идеального в жизни вообще очень мало…
КРИСТИНА: Конечно! Вы человека любите, а он только на вашу сестру глядит…
ЛИЗА (подходя к Кристине и садясь рядом): О чём это ты?
КРИСТИНА: Сами знаете…
ЛИЗА: Ты слышала наш разговор с Алексеем?
Кристина опускает голову.
ЛИЗА: Подслушивать нехорошо. Ты не знала?
КРИСТИНА: Случайно получилось…
ЛИЗА: И из чего ты сделала вывод, что я его люблю?
КРИСТИНА: По лицу поняла…
ЛИЗА: Врёшь…
КРИСТИНА: Фотографию его у вас видела…
ЛИЗА: Тоже случайно?
Кристина молчит.
ЛИЗА: На будущее… Если ты что-то захочешь узнать об отношениях в этом доме, можешь просто меня спросить. Договорились?
КРИСТИНА: Извините…
ЛИЗА: Извиняю. Что ж, ты права, так всё и есть. Он всю жизнь любит Аню, а я всю жизнь люблю его… Когда они начали встречаться, я ещё училась в школе. Он меня и всерьёз-то не принимал. «Маленькая сестра» и только. А я в подушку ревела и мечтала…
КРИСТИНА: А Женька?
ЛИЗА: Что Женька? Ах… Ты, верно, хочешь спросить об его отце… Что ж, это не та страница моей жизни, которой я могла бы гордиться. Но, благодаря ей, у меня есть Женька, и этим она полностью оправдана.
КРИСТИНА: А у меня ничего нет. И никого! И, кажется, ничего уже не будет…
ЛИЗА: Непременно будет. Тебе лишь семнадцать. У тебя ещё вся жизнь впереди. Я, кстати, хотела поговорить с тобой. Что ты собираешься делать после сдачи экзаменов? Я слышала, как ты ругалась с отцом из-за университета.
КРИСТИНА: К чёрту университет! Тошнит уже от этого… Работать пойду, чтобы уже самой как-то жить.
ЛИЗА: Куда?
КРИСТИНА (пожимая плечами): Может, официанткой…
ЛИЗА: Не лучшая профессия для молодой девушки. К тому же ресторанов скоро сильно поубавится.
КРИСТИНА: Есть предложения?
ЛИЗА: Нам в больнице не хватает рабочих рук. Ты могла бы у нас поработать. А там… можно закончить медицинские курсы, выучиться на врача, если захочешь. Я бы помогла тебе.
КРИСТИНА: Скучно это…
ЛИЗА: Скучно, да. Но ты всегда сможешь оставить эту работу. Пойми, война набирает обороты. Нам с каждым днём доставляют всё больше раненых. Нам важны каждые руки. А в тех городах, что сейчас на передовой, медиков почти не осталось. Они бегут оттуда. В ближайшее время я поеду туда с грузом медикаментов…
КРИСТИНА: Не боитесь?
ЛИЗА: Боюсь. Но так надо. Люди гибнут. И людям нужна наша помощь.
КРИСТИНА: Странно… Оказывается, вы умеете убеждать, настаивать…
ЛИЗА: Зависит от ситуации.
КРИСТИНА: В другое время вы бы меня не убедили. Но после всего, что я видела и слышала за последние недели… Я согласна.
ЛИЗА (пожимая руку Кристины): Вот и славно!
За сценой слышен голос Эдуарда: «Аня! Аня!»
ЛИЗА: Кажется, что-то случилось…
Сцена 5.
Комната Анны и Эдуарда. Анна расчёсывает волосы перед зеркалом. Эдуард входит и плотно затворяет дверь.
ЭДУАРД: Где дети?
АННА: Ушли гулять с Настей и Андрюшей.
ЭДУАРД: Весьма кстати!
АННА: Что-то случилось!
ЭДУАРД: Случилось! Из-за фанатиков рушатся все планы!
АННА (оборачиваясь к мужу): О чём ты?
ЭДУАРД: О том, что из-за того, что в дело вмешались такие ненормальные, как ваш друг семьи, война набирает обороты, и мы уже ни о чём не можем договориться! Потому что фанатикам на наши договоры начхать!
АННА: Разве на той стороне нет фанатиков?
ЭДУАРД: И на той! И на этой! И в итоге полный ералаш… Мы же даже сплавили в Киев нашего местного буяна, чтобы не мешался… Так теперь он на свободе! Выменяли его на каких-то украинских идиотов с большими звёздами, умудрившихся вляпаться в плен к безоружным мужикам!
АННА: Я не понимаю… Что значит «сплавили в Киев»?
ЭДУАРД (садясь на кровать): Тебе и не нужно понимать! Политика требует холодного расчёта, а не скачек с шашкой наголо! А что теперь?!
АННА: Разве Россия нам не поможет?
ЭДУАРД: На кой ляд России приобретение в виде гиппер-Чечни?! России нужен был договор! Понимаешь? Умные люди на разных уровнях проводили консультации, чтобы всё по-умному поделить… В смысле я хотел сказать урегулировать конфликт! Так нет же! Буянам подавай совесть! Подавай справедливость! Мы живём в мире, где правят финансы, и именно на этом уровне должно всё решаться без вмешательства толп и их контуженных идеалами вождей!
АННА: Кажется, ты куда больший циник, чем мой брат…
ЭДУАРД: Твой брат не циник, а неудачник и лентяй, единственное удовольствие которого вечно говорить поперёк и жалить всех своим поганым языком!
АННА: Я попросила бы тебя! Всё-таки речь о моём брате!
ЭДУАРД: Брате! Свате! Какая, чёрт возьми, разница?! Короче. Я вместе с несколькими коллегами должен на время отбыть в Москву для консультаций.
АННА: А я? А дети?
ЭДУАРД: Аня, что за вопрос? Я же сказал, что уезжаю по делам. И вернусь сразу, как их улажу! А там будем решать, куда грести…
АННА: Ты на Тальберга похож…
ЭДУАРД: Кто это?
АННА: Персонаж «Дней Турбиных»…
ЭДУАРД: К чёрту литературу! (откидываясь на кровать) Всегда, с самого детства ненавидел фанатиков и идеалистов… Самые опасные люди. Любое дело могут испортить! Ведь всё так хорошо складывалось… А теперь сколько сил понадобится, чтобы вернуть всё на круги своя! (поднимается) Короче. Уложи мои вещи. А я пойду выпью чего-нибудь…
АННА: Ты что же, уезжаешь прямо сейчас?!
ЭДУАРД: Я не хочу, чтобы твои родные выражались при мне на мой счёт. Они ведь непременно истолкуют мой отъезд превратно!
АННА: А как я его истолкую, тебя не волнует?
ЭДУАРД: А как ты можешь его истолковать? Я уезжаю в командировку! Не первый раз! На твоём счету остаётся круглая сумма, наличность также остаётся тебе.
АННА: Тебе кажется нормальным всё измерять в деньгах?
ЭДУАРД: Такое время, Аня. И не нужно на меня так смотреть! Я не из тех людей, которые бросают своих детей, ты должна бы это знать. Я вернусь, как только смогу. В крайнем случае вызову в Москву вас. Давай же, собери мой чемодан.
Эдуард уходит.
АННА (с досадой швыряя в угол расчёску): Подлец… Какой подлец… Если бы не дети… Но теперь поздно, поздно. Для всего поздно. Неужели всё, действительно, могло быть иначе, и я сама исковеркала себе жизнь? Нет-нет, ничего не могло быть иначе. А значит, надо собирать чемодан…
Сцена 6.
Передовая. Кабинет Алексея. Алексей стоит у стола, склонившись над картой. Рядом – три ополченца – командира подразделений. В углу на стуле сидит Лиза.
АЛЕКСЕЙ: Вот этот пункт держать, во что бы то ни стало. Ясно? Во что бы то ни стало! Если они его займут, то мы окажемся в полном окружении. Постарайтесь также держать мост… Олег, задача ясна?
1-Й КОМАНДИР: Так точно!
АЛЕКСЕЙ: И в чём твоя главная задача?
1-Й КОМАНДИР: Держать мост любой ценой!
АЛЕКСЕЙ: Ответ неверен. Твоя главная задача сохранить жизни своих бойцов и по возможности свою. А лишь затем – мост. Ваши жизни, жизни личного состава – вот, главная ценность! Поэтому когда укры идут на блокпосты, не надо кидаться грудью на амбразуру! Уходите в укрытия. В город они всё равно лезть не рискнут. Ну сожгут блокпост, ну, сделают на фоне него победное сэлфи… Да и уйдут с тем! Камни и железо – ничто. Они восстановимы. А вот, жизни бойцов – всё. Берегите их. Приказ всем ясен?
КОМАНДИРЫ (хором): Так точно!
АЛЕКСЕЙ: Свободны.
Командиры уходят.
ЛИЗА: Надо же… Ты прямо настоящий генерал…
АЛЕКСЕЙ: Ага, без армии…
ЛИЗА: Тебе нужно было в военные идти…
АЛЕКСЕЙ: В украинскую армию? Под начало разных сукиных сынов, на которых я досыта насмотрелся за время «срочки»? Нет уж, благодарю. Воевать за правое дело – это одно, а шаркать по паркетам – тошно. Но ты права… Впервые чувствую себя на своём месте. Не знаю только, надолго ли…
ЛИЗА: Я слышала об окружении…
АЛЕКСЕЙ: Окружение, да… Но хуже другое. Хуже то, что за всё время, что мы здесь отбиваемся на все стороны света, ни одна сволочь не оказала нам помощи. Зато шлют временами исключительной ценности указания и советы, которые мы, конечно, используем по назначению. В центрах сидит сволочь. Которой наша борьба глубоко до… лампочки! А мы, как зуб в носу… По-хорошему, все эти милейшие политики вроде твоего свояка должны висеть на одном суку с их киевскими коллегами. В сущности, они занимаются одним делом. Предательством народа!
ЛИЗА: Ты, как всегда, категоричен.
АЛЕКСЕЙ: Но я прав. Беда в том, что, пока мы здесь истекаем кровью, они узурпируют власть и продают нас за нашей спиной. А мы не можем им препятствовать, потому что это означало бы войну на два фронта!
ЛИЗА: Эдуард уехал в Москву для каких-то консультаций…
АЛЕКСЕЙ: Сбежал, значит. Умный человек! Хорошо бы они все сбежали и больше не показывались здесь… Они и не имеют права возвращаться! Потому что, если говорить о мужчинах, право жить в отвоёванной стране имеют только те, кто проливал за неё кровь! Остальные могут искать себе другую… Где можно вдоволь жрать и совокупляться… А мы их назад не примем… (пауза) Если конечно, останемся живы. И они это знают. Поэтому очень не хотят, чтобы мы выжили. Но мы выживем! И заставим считаться с собой!
ЛИЗА: Всё, действительно, так плохо?
АЛЕКСЕЙ (нервно): Нет, всё ещё хуже… Знаешь, здесь все верили в то, что Россия поможет. С какой радостью везде вывешивали российские флаги! А теперь… А теперь начинают проклинать. Потому что когда здесь каждый день хоронят убитых женщин, стариков и детей, Москва отмечает очередной праздник, Москва веселится, Москва проводит парады… Парады! На кой чёрт это бряцание оружием, если оно не защищает русских людей?! Государство, которое отказывается защищать свой народ, это уже не государство, потому что защита своего народа и каждого своего человека является его главной задачей. Защищать народ, а не продавать газ и нефть! Москва обещала защиту, Москва прогуляла свои танки до границы… А потом увела их, сказав что учения закончены. А мы остались. Под «градами», «смерчами» и «ураганами» с древними «калашами» и рпг… Стыдно людям в глаза смотреть, Лиза.
ЛИЗА: Чего же стыдится тебе?
АЛЕКСЕЙ: Твари долбят беззащитный «мирняк». Мы, ополчение, встали на его защиту. А в итоге не можем защитить! Да, мы не виноваты, что оказались с голыми руками против танков и артиллерии. Но разве родным убитых от этого легче?
ЛИЗА: Что же будет теперь?
АЛЕКСЕЙ: Борьба до победного конца, что же ещё. И до тыловых крыс мы ещё доберёмся…
ЛИЗА: Я бы хотела остаться здесь. Я знаю, что в городе почти не осталось врачей, а я…
АЛЕКСЕЙ (резко): Нет!
ЛИЗА: Почему «нет»?
АЛЕКСЕЙ: Потому что – нет! Я очень благодарен тебе, что ты прорвалась сюда. За то, что привезла медикаменты – они нам необходимы. Но теперь ты уедешь, пока мышеловка ещё не захлопнулась. (поднимает руку, предупреждая возражения) Уедешь вместе с ранеными, которых необходимо вывезти из города. Их жизни будут в твоих руках. И всё! Это не обсуждается. Здесь война, и мои приказы обсуждению не подлежат. Всё ясно?
ЛИЗА (с печальной усмешкой): Так точно…
АЛЕКСЕЙ: За сына не волнуйся. Обещаю тебе его вернуть живым. Парень настоящий герой!
ЛИЗА: Спасибо, Алёша, я рада это слышать. Но не обещай ничего. Наши жизни в руках Божьих. А то, как ты бережёшь своих солдат, я знаю. Береги и себя, как их. (поднимается) А теперь я пойду. Прослежу за погрузкой раненых.
АЛЕКСЕЙ (подходя к ней и пожимая её руки): И тебе спасибо, Лиза. Я не прощаюсь, мы ещё увидимся сегодня. Я приду проводить наших бойцов и тебя.
Лиза уходит.
Алексей возвращается к столу и опускается во вращающееся кресло.
АЛЕКСЕЙ: Ещё хуже… (прикрыв глаза) Гораздо хуже… Чёртова «бутылка»… Ну, ничего-ничего, и из «бутылки» выберемся безо всяких Алладинов… И тогда поквитаемся с вами, господа тыловые «стратеги»… Всех бы вас собрать да сюда в подвалы… Чтобы вы в них, под обстрелами, без воды и еды рассуждали бы о «большой политике»… Но что же будет с людьми? Как быть с ними…
Алексей поднимается и ходит по кабинету.
АЛЕКСЕЙ (полупроговаривая, полунапевая сквозь зубы): Вы не встречайте нас весело,
Мы не с победою прибыли.
Не говорите нам песнями,
Из нас бойцов сколько выбыло.
Ветки ива развесила,
Все равно нам не весело,
Нынче рано проснулась земля.
Только не предавай меня.
Родина, не предавай меня!
Наша жизнь, как на лезвии.
В горле стоим кому-то мы.
Землю пахать полезнее,
Но надо стрелять, хоть и муторно.
Сколько там наворочено?!
Не прикроешься строчками.
И опять нас во всем винят.
Только не предавай меня.
Родина, не предавай меня!
Вот и звоны плывут колокольные
Над полями, березами грустными.
Почему мы не птицы вольные?
Разве наша вина, что мы русские?!
Ты нас досыта кормила сказками,
Не сыны тебе ближе, а пасынки.
Из огня идем в полымя.
Только не предавай меня.
Родина, не придавай меня!
Вы все хотели жить смолоду.
Вы все хотели быть вечными.
И вот войной перемолоты,
А в церквах стали свечками.
Вот так и живем походами
Под небесными сводами.
Без тебя не прожить ни дня.
Только не предавай меня.
Родина, не предавай меня![1]
Акт 3.
Сцена 1.
Дом Лохвицких. Гостиная. Пол усыпан кусками штукатурки и стекла. Возле раскрытого настежь книжного шкафа валяются книги. Возле него на стремянке стоит Лёня и расставляет книги, подаваемые ему Виктором Викентьевичем. Лиза и Кристина метут пол. Анна сидит на диване, закутавшись в дорогую шаль и глядя перед собой невидящим взором.
АННА: Мой муж подлец…
ЛЕОНИД: Чрезвычайное открытие! Как ты догадалась?
АННА: Заткнись… Ты немногим лучше его.
ЛЕОНИД: Клевета! В отличие от него я честно ежедневно подвергаюсь угрозе нелепой смерти под очередным обстрелом.
КРИСТИНА: Шли бы в ополчение. Может, она не столь нелепой была бы.
ЛЕОНИД (театрально кланяясь с лестницы): Спасибо тебе, добрая душа!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Вы можете вести себя достойно? Армия отступила, мы теперь на передовой. Нас, действительно, во всякий день могут стереть с лица земли! А вы всё грызёте друг друга…
ЛЕОНИД: Надо ж хоть чем-то отвлечься!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Прекрати!
ЛИЗА: Стёкла нужно будет новые ставить…
ЛЕОНИД: Думаешь, стоит? Опять вышибут.
ЛИЗА: А ты считаешь, надо жить с окнами заколоченными досками?
ЛЕОНИД: Я считаю, что нужно что-нибудь изобрести, чтобы защитить новые стёкла.
ЛИЗА: Есть идеи?
ЛЕОНИД: Есть. Не забывай, я всё-таки кое-чему учился и кое-что в вопросах строительства и тому подобного понимаю.
ЛИЗА: Ну, что ж, сделай одолжение, займись этим!
ЛЕОНИД: Займусь, займусь…
ЛИЗА: Который теперь час?
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Полдень.
ЛИЗА: Господи Боже, в два гуманитарку привезут, нужно успеть получить…
АННА (воздевая руки): Гу-ма-ни-тарка… Этот подлец оставил мне карточку и денежный счёт… А они заблокировали все счета! И эту карточку можно теперь спокойно выбросить на помойку. Наличные кончились…
ЛЕОНИД (раскрыв очередную поданную книгу): «Не дай Бог проснуться в Москве в 18-м году!» Цветаева!
АННА: Не дай Бог проснуться на Донбассе в 14-м… Да и в 15-м лучше не станет… Как я его ненавижу. Он ещё смеет звонить и успокаивать… Убила бы собственными руками.
ЛЕОНИД: Он прислал тебе помощь и деньги по своим каналам!
АННА: Низкий ему за это поклон! (поднимается и ходит взад-вперёд) Что я здесь делаю? Зачем я здесь?
ЛЕОНИД: Я тоже не понимаю, зачем ты здесь, когда дети у Насти и не смогут вернуться раньше завтрашнего дня, когда я приведу в порядок наши окна.
АННА: Действительно, лучше я уйду к ним! По крайней мере, у Насти никто не упражняется в остроумии.
Анна уходит.
ЛИЗА: Зря ты разозлил её. Ей и так плохо.
ЛЕОНИД: Серьёзно? А кому-то здесь хорошо?
ЛИЗА: Это не повод делать хуже тому, кто рядом.
ЛЕОНИД: Всегда добрая и за всех заступающаяся Лиза! (ставит последнюю книгу и спускается с лестницы) Если они сожгут библиотеку, это будет катастрофа!
КРИСТИНА: А если они сожгут дом, это не будет катастрофой?
ЛЕОНИД (потрепав по щеке Кристину, дёрнувшуюся в сторону): Кажется, вирус остроумия поразил не только меня.
ЛИЗА: Это нервное, говорю тебе, как врач… Боже, ведь пора идти за гуманитаркой!
ЛЕОНИД: Я сам схожу. Заодно поищу, кто бы нам помог со стёклами.
ЛИЗА: Спасибо.
Леонид уходит. Виктор Викентьевич закрывает разбитый шкаф и тяжёло опускается в кресло-качалку.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Столько лет я изучал события Гражданской войны и никак не мог подумать, что доживу до того, чтобы на своей шкуре испытать всё то, о чём читал и писал. Да, это катастрофа… Моя – Бог с ней. Я прожил жизнь… Но это катастрофа всего народа, России. Интересно, многие ли понимают это.
КРИСТИНА (возясь у телевизора): Ящик накрылся…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Тем лучше. По крайней мере, не увидим больше лоснящейся физиономии моего зятя и ему подобных горлопанов, что кочуют с канала на канал и несут первосортную ахинею. Их похабное перемирие уже стоило нам уйму жертв и стратегический проигрыш. Но им мало! Они всё ещё думают что можно всё вернуть назад и мирно заниматься распилом. А нельзя! Между западом и востоком отныне преграда куда более страшная, чем изобретаемые ими стены – кровь… Целая река крови, которая с каждым днём становится всё шире и глубже. Для того чтобы преодолеть её понадобятся десятилетия, а то и века. А они говорят о мире… Мир достигается лишь победой одной из сторон и капитуляцией другой. И сейчас они под видом мира пытаются провести капитуляцию… Нашу… Навроде Брестского «мира». Вот, только даже если это им удастся, кровь опять потребует крови, и война разгорится вновь.
ЛИЗА: Если никто не против, я пойду вздремну. У меня сегодня ночная смена.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Иди в мою комнату – там уцелели стёкла.
Лиза целует отца и уходит.
КРИСТИНА: Вам бы тоже не следовало сидеть здесь. Такой сквозняк…
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Сквозняк, да… Но это не страшно. Сейчас многое из того, что казалось страшным прежде, перестало быть таковым. Жизнь изменилась, и наша психология приспосабливается к этим переменам. Подай-ка мне книгу, что цитировал Лёня.
Кристина подаёт ему том Цветаевой.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Нет, оставь себе. Прочти. Это как раз об этом… О выживании в условиях, в которых по мирным обывательским понятиям невозможно выжить.
Кристина покорно берёт книгу и уходит.
КРИСТИНА (шёпотом): Опять «прочти»! Только это и слышишь всю дорогу… Можно подумать, у меня есть время.
Сцена 2.
Госпиталь. Лиза сидит у постели раненого.
РАНЕНЫЙ: Лучше бы насмерть убило… Просил же добить… Пожалели, в госпиталь повезли…
ЛИЗА: Напрасно вы так. Очень много боли на свете, но всякая раньше или позже проходит, кроме разве что душевной. Вы нужны вашей жене, вашей семьей…
РАНЕНЫЙ: Не говорите о жене, Елизавета Викторовна. Именно ради неё лучше бы было, чтобы меня убило. Она молодая, она бы снова вышла замуж! А теперь? Зачем ей безрукий калека, который ничего не может?!
ЛИЗА: Мне кажется, что это ей решать. Она вас любит. А вы говорите, что для неё было бы лучше, чтобы вас не было… Уверена, её бы очень возмутили такие слова.
РАНЕНЫЙ: Её и возмутили… Но это сейчас. Сейчас она полна самопожертвования, ей меня жаль. Пройдёт время, и она поймёт, что невыносимо жить с инвалидом. Это же не жизнь! Жизнь сиделки без всякой надежды… У вас есть муж, Елизавета Викторовна?
ЛИЗА: Нет… Но есть человек, которого я люблю уже много лет. И я вам могу сказать, что я бы была с ним всегда. И самым страшным для меня было бы, если бы его не стало.
РАНЕНЫЙ: А для него было бы страшно остаться немощным калекой на шее любимой женщины.
ЛИЗА: Я не спорю, ваше положение очень тяжёлое. Но вспомните Отечественную войну. Юная девушка Зина Туснолобова осталась без обеих рук и ног. Что может быть ужаснее? Но она выжила. Её жених остался с нею. Они поженились, произвели на свет и вырастили двух замечательных детей. Она работала на радио и… несмотря ни на что была счастлива! Потому что была любима и любила сама. А Василий Петров? Человек без обеих рук добился возвращения на фронт! Мы знаем только подвиг Маресьева, а ведь сколько их было – таких героев. Кстати, Петров жил в Киеве. Там и похоронен. Киевские власти выбросили на улицу все его вещи и сделали там музей Голды Мейер…
РАНЕНЫЙ: Что ж, он недавно умер?
ЛИЗА: Да нет, это ещё при Кучме было.
РАНЕНЫЙ: Вот, сволота…
ЛИЗА: Поймите, никогда нельзя отчаиваться. Жизнь очень жестока. Но мы должны уметь держать удар. Бороться. Особенно, когда есть ради кого. Вы должны ради вашей жены бороться. Один боец потерял в Чечне руку и обе ноги. И что же? Женат, растит троих детей, работает инструктором в одном из силовых ведомств. А ведь стоило ему отчаяться, и всё! И он бы пропал, и жена бы его осталась несчастна.
РАНЕНЫЙ: Хорошо вы говорите, Елизавета Викторовна… Умеете вы всегда слово найти…
ЛИЗА: Завтра придёт ваша жена. Постарайтесь не огорчать её. Ей очень-очень тяжело сейчас. И станет гораздо легче, если вместо отчаявшегося, зовущего смерть мужа она увидит мужа, готового бороться за своё и её счастье. А теперь спите. Обезболивающие должны уже действовать, и час очень поздний.
РАНЕНЫЙ: Спасибо, доктор. Доброй вам ночи.
ЛИЗА: И вам.
Лиза уходит.
Сцена 3.
Кабинет Лизы. За её столом над книгой сидит Кристина.
ЛИЗА: Что читаешь?
КРИСТИНА: Цветаеву… Ваш отец велел прочесть.
ЛИЗА: И ты послушалась?
КРИСТИНА: Да не спалось… Вот, решила полистать. Мне стихи её в школе нравились про любовь.
ЛИЗА: А это?
КРИСТИНА (читает): «А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся — разговор. Черт этот — еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет… Три деревни точно… Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж — Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!
Я: — Повешены. У меня даже в книжке записано.
Он: — И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита — Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт — понимаете?»
Вот это – определённо нравится! Что-то напоминает.
ЛИЗА: Нынешнюю Украину. Да-да, очень похоже.
КРИСТИНА: Такие мерзкие все…
ЛИЗА: Было бы время, я и сама бы «Вольный проезд» перечла. Актуально… Однако же, твоё дежурство уже началось.
КРИСТИНА (зевая): Ага. (кладёт книгу и выходит из кабинета)
Лиза садится на её место, кладёт руки на стол и, склонив на них голову, засыпает.
Сцена 4.
То же. Входит Алексей. Подойдя к спящей Лизе, осторожно трогает её за плечо.
ЛИЗА (просыпаясь): Алёша?!
АЛЕКСЕЙ (чуть улыбнувшись): Прости за поздний визит. Проведывал одного из наших бойцов, узнал, что ты сегодня в ночную, и решил повидать. Давно не виделись, Лиза.
ЛИЗА: Отчего же ты не зашёл к нам? Папа был бы так рад тебе!
АЛЕКСЕЙ: Боюсь, кое-кто рад бы мне не был. Да и я не хочу… бередить… Не время.
Алексей садится на стул напротив Лизы.
АЛЕКСЕЙ: Выглядишь уставшей.
ЛИЗА: Есть отчего…
АЛЕКСЕЙ: Да…
ЛИЗА: В нашем дворе сегодня мина взорвалась. У нас окна повылетали…
АЛЕКСЕЙ: Проклятое перемирие! Мы стоим, как привязанные, а они лупят по нам без всякого стеснения! У нас три старика умерли от голода. Я распорядился всем нуждающимся помогать с нашего склада, но он не резиновый! Наши медики лечат «мирняк», потому что обычные врачи уехали… Вчера хоронили мальчонку, убитого при обстреле. Мать нас проклинала… И укров, и нас… Я её понимаю. Честное слово, лучше десять котлов, чем одни такие похороны.
ЛИЗА: Я за эти месяцы кое-что тоже поняла…
АЛЕКСЕЙ: Что же?
ЛИЗА: Самый страшный враг на войне – это не противник, с которым ведёшь бой, не фашизм или иная идеология. Самый страшный враг – смерть. Смерть, которая похищает тех, кто нам дорог, а мы ничего не можем сделать, ничем не можем ей помешать…
АЛЕКСЕЙ: Я бы добавил к этому ещё одного врага. Предательство, которое связывает нам руки. Во времена Чеченских войн была такая хорошая песня:
Если будет приказ назад,
И завертится вспять земля,
Мы своих повернём солдат,
Чтоб увидеть глаза Кремля.
Потому что на свете есть,
Кроме курева и вина,
Офицерская наша честь
И одна за спиной страна!
Наш вопрос простой: дайте дошагать!
Не кричите стой, чтобы снова вспять!
Мы прогнали грусть, смерть потрогали,
Чтоб не рвали Русь орды погани.
Вот, у нас сейчас то же положение. Впору разворачиваться и идти в глаза Кремля смотреть.
ЛИЗА: Что ты хочешь в них увидеть?
АЛЕКСЕЙ: Не знаю… В них и увидеть-то ничего нельзя. Вот, взгляни на тех, кто у нас теперь здесь власть изображает, на тех, кто в московских студиях за нас вещают, узурпируя и подменяя наш голос. У них у всех глаза мутные. Время бессовестных и мутноглазых… За столько месяцев войны мы ничего не смогли изменить даже на территории наших республик. Порядок вещей всё тот же. Воровство, кумовство, бардак и беспредел. Законов нет, народ безмолвствует. А разве за это проливается кровь? Люди, сами люди должны отвергнуть этот порядок. Из всех грехов и преступлений большевиков, одно из самых страшных – это угашение в людях чувства ответственности за себя, за свою семью, за свою землю. Они привыкли, чтобы за них всё решали, и не привыкли решать и действовать сами. А сейчас пришло время действовать самим! Брать устроение жизни в свои руки, не делегируя эту обязанность очередным мутноглазым! Самостоятельно и сообща наводить порядок – действительно народный! И если этого не произойдёт, то вся народность так и останется у нас одной лишь буквой в названиях республик.
ЛИЗА: Я слышала, что у себя ты именно таким устройством и занимаешься. И небезуспешно?
АЛЕКСЕЙ: Не я, мы… Наши люди. Вот, только, кажется, именно за это меня и убьют.
ЛИЗА: Что ты говоришь! Ты же один из лучших командиров! Тебе верят, тебя уважают и любят столько людей!
АЛЕКСЕЙ: Это как раз вторая причина. Лиза, волк не может жить в шакальей стае. Или он порвёт шакалов, или они, навалившись, порвут его. На меня сезон охоты открыт уже давно. Флажки уже расставлены…
ЛИЗА: Но ведь это – безумие!
АЛЕКСЕЙ: А что теперь у нас не безумие? Нет, Лиза, это не безумие. Это, как сказал бы муж твой сестры, здравый смысл и мудрость. От фанатиков надо избавляться, чтобы они не путали карты в играх умных людей. А я только тем и занимаюсь, что путаю их краплёные карты. И буду этим заниматься! (ударяет ладонью по столу) Пока жив.
ЛИЗА: О чём ты говоришь? Если ты знаешь, что за тобой охотятся, ты должен подумать о своей безопасности, о защите!
АЛЕКСЕЙ: В Библии, если не ошибаюсь, сказано, что ни один волос не упадёт с нашей головы, без вышней воли. Своей пули не избежит никто. Но встречать свою пулю должно лицом к лицу. Вне зависимости, с какой стороны она прилетает. Если меня убьют, что ж, значит так тому и быть. Меня они могут убить, могут убить и многих других, но они уже никогда не убьют нашей идеи. Мы дали хороший пример, Лиза. Посеяли доброе семя. И дай срок, оно принесёт плоды. И Новороссия непременно будет! Не республики, а Новороссия! С нами или без нас, она будет! Несмотря на все предательства, она будет! А мы должны исполнить свой долг до конца и только. (пауза) Ладно, оставим это. Не самая отрадная тема для наших редких встреч. Что твоя сестра?
ЛИЗА: Проклинает Эдуарда за то, что оставил её вместе с детьми в этом аду и не спешит забрать к себе в Москву.
АЛЕКСЕЙ: Заберёт, куда он денется… Как Виктор Викентьевич?
ЛИЗА: Держится. Правда, сердце подводит, но он не подаёт виду, крепится.
АЛЕКСЕЙ: Всегда уважал твоего отца. Передавай ему моё самое крепкое рукопожатие. И вот это передай (подаёт Лизе небольшую папку).
ЛИЗА: Что это?
АЛЕКСЕЙ: Материалы к истории конфликта. Я думаю, твоему отцу, как историку, они будут интересны. Может быть, он даже найдёт им должное применение.
ЛИЗА: Я передам. Не хочешь ли чаю? Я сейчас заварю.
АЛЕКСЕЙ: Не стоит. (пауза) А что, Лиза, может, оставим дня на два наши обязанности и махнём в обитель нашего босоного детства? Вы-то бабкину хату давно продали, а наша развалюха там ещё стоит… Давно я там не был. Да и у родителей на могилах… Всё собирался, собирался, а было недосуг…
ЛИЗА: Зачем же ты меня зовёшь? Я ведь лишь «маленькая сестра»…
АЛЕКСЕЙ: Ты – друг, Лиза. Впрочем, прости, если обидел.
ЛИЗА: Что ж тут обидного. Но я в любом случае не могу поехать. Не могу оставить раненых… И дом нужно ремонтировать…
АЛЕКСЕЙ (поднимает руку, останавливая): Не продолжай. Я всё понимаю. Я тоже утром должен быть совсем в другом месте. Просто накатил дух своеволия и ностальгии… (смотрит на часы) Мне уже и пора, кстати. Дорога неблизкая, а встреча у меня важная. Опоздать нельзя.
Алексей поднимается. Лиза встаёт следом.
АЛЕКСЕЙ (крепко обнимая её): Прощай, «маленькая сестра»!
ЛИЗА: Береги себя, Алёша! Ты нам всем очень нужен!
Алексей уходит. Лиза крестит его вслед, бессильно опускается на кушетку и закрывает глаза.
Сцена 5.
То же. Лиза спит на кушетке. Словно в тумане появляется Алексей и две тени.
АЛЕКСЕЙ: Что-то пошло не так! -
Бьётся в виске отчаянно.
Чей это хохот?
ПЕРВАЯ ТЕНЬ: Чудак!
Верить иудам и каинам!
АЛЕКСЕЙ: Бог нам открыл все пути!
Шаг оставался до цели!
ВТОРАЯ ТЕНЬ: Что нам до Бога? Прости!
Цель мы иную имели!
АЛЕКСЕЙ: Что же такая за цель?
Снова - февральское бесиво?!
Глотки продажных емель
Кличут кровавое месиво...
ВТОРАЯ ТЕНЬ: Ваших сердец огнём
Новый пожар раздуем!
Бейся о стену лбом -
Всё-то, дружок, впустую!
ПЕРВАЯ ТЕНЬ: Что замолчал, Дон Кихот?
Лопасти скоростью адской
Крутятся наоборот,
Мир погребая славянский.
ВТОРАЯ ТЕНЬ: Вас мы засыплем золой,
Самых опасных и рьяных,
Свергнем чахоточный строй
Праведным гневом профанов.
ПЕРВАЯ ТЕНЬ: То-то веселье пойдёт!
Ваши наивные бредни,
Ваши мечты, сумасброд -
Наших плевел удобренье.
АЛЕКСЕЙ: План ваш проклятый хитёр!
Только не станем в нём пешками!
ВТОРАЯ ТЕНЬ: Меч твой ещё остёр?
Ну же! Давай! Не мешкай!
АЛЕКСЕЙ: Не затупился меч.
И идеал - не химера.
Будет и русская речь,
Будет и русская вера.
Вам наших мечт не понять,
Как не понять нашей силы.
Будем мы в правде стоять,
Ибо жизнь наша - Россия.
Вы и живые - лишь прах.
Мы и погибшие - живы.
Подлая ваша игра,
Каждая карта фальшива...
Но не пристало играть
Нам за столом с шулерами,
И хоть мала наша рать,
С нами Спасителя знамя.
ПЕРВАЯ ТЕНЬ: Жалкий, наивный чудак!
Ты ничего не сможешь!
Прочен и вечен мрак,
Сотканный ловкой ложью.
Будут слепцы слепцов
В нём поднимать на колья,
Чтобы в конце концов
Той же изведать доли.
Будут друг друга рвать,
Нашей указке внемля.
Мы же, придя усмирять,
Вашу разделим землю.
Наша верна игра!
Стой и смотри, безумный!
- Праздновать прежде утра
Рано триумф подлунный!
АЛЕКСЕЙ (отступая от надвигающихся теней): Бред ли горячечный, сон...
Стая чиширский усмешек...
Что-то мычит в унисон
Стадо услужливых пешек...
Боже, какой-то мрак!
Вновь погребальные звоны!
Что-то пошло не так! -
Бьётся в виске исступлённо.
Дьявольский пир гудит -
Горькое наше похмелье.
Нежить костями хрустит
Тех, что вчера отпели.
Господи, научи!
Не промедли с ответом!
В этой безумной ночи
Путь укажи к рассвету!
Сцена 6.
То же. Лиза одна спит на кушетке. Входит Леонид.
ЛЕОНИД (тряся её за плечо): Лиза, проснись. Дурные вести!
ЛИЗА (резко садясь): Что-то с Алёшей?!
ЛЕОНИД: Как ты узнала?
ЛИЗА: Сон… Я видела сон… Его убили, да?! Ну же, говори! Убили?!
ЛЕОНИД: Убили, Лиза… Расстреляли на дороге отсюда. Засада…
ЛИЗА (сдавливая руками голову): Это я виновата!
ЛЕОНИД; Причём здесь ты?
ЛИЗА: Он предлагал поехать с ним…Хотел навестить могилу матери…
ЛЕОНИД: А ты?
ЛИЗА: А я подумала, зачем же он меня зовёт, коли я для него так… Просто так… Я же не Аня. Вспомнила зачем-то, как искала встреч с ним, напрашивалась… И не поехала, понимаешь?! Чтобы не обманывать саму себя… А если бы поехала, он был бы жив!
ЛЕОНИД: Его бы просто убили в другой раз. Или вас бы убили вместе.
ЛИЗА: И так было бы лучше…
Леонид садится рядом с сестрой и обнимает её.
ЛЕОНИД: Не говори глупости. А Женька? А отец? А твои раненые? Ты всем нам нужна!
ЛИЗА: Он тоже был нужен нам всем… А теперь его нет. А мы ничего не сделали, чтобы этого не допустить. Смерть снова победила…
ЛЕОНИД: Я тебя не узнаю! Ну, мне безбожнику так говорить простительно. Но ты-то! А как же жизнь вечная, лучшая?
ЛИЗА: Об этом хорошо говорить другим… Алёше сейчас хорошо, я знаю. Но нам – плохо. Наше сиротство в этом мире с каждым днём становится всё страшнее. Аня уже знает?
ЛЕОНИД: Да. Плачет. Но у неё это скоро пройдёт. Люди, слишком любящие себя, обычно легко переживают чужое горе.
ЛИЗА: А ты сам?
ЛЕОНИД (вставая): Сам я, Лиза, уезжаю сегодня. Военкором решил стать. Солдат из меня некудышний, а военкор, пожалуй, получится.
ЛИЗА: Ты же говорил, что не желаешь в этой войне участвовать?
ЛЕОНИД: Беда в том, что в ней уже участвуем мы все, включая грудных младенцев. И вообще… В каждом русском человеке есть место сентиментальности и романтизму, толкающим его на глупейшие поступки. А я всё же русский человек.
ЛИЗА: Опять пытаешься отшутиться?
ЛЕОНИД: Могу и серьёзно ответить. Я не могу дольше смотреть, как за меня гибнут другие. Смерть Алёши стала для меня последней каплей.
ЛИЗА: Я всегда знала, что ты лишь притворяешься циником. Ты сказал отцу?
ЛЕОНИД: Я никому ничего не говорил. Не хочу никаких высоких напутствий, объятий и прочей полагающейся в таких случаях ерунды. Скажешь дома всё сама. И можете вместе предаться рассуждениям о том, какой я на проверку оказался романтик и дурак, как непременно назовёт меня Аня. В моё отсутствие я вам это дозволяю!
ЛИЗА: Сохрани всё-таки толику цинизма, чтобы не лезть на рожон.
ЛЕОНИД (театрально прикладывая руку к сердцу): Торжественно клянусь и обещаю! (потрепав сестру по плечу) До встречи, Лиза! Держись!
Леонид уходит. Лиза затворяет за ним дверь и оседает на пол, прижавшись к стене спиной.
ЛИЗА (стиснув руками голову, дрожащим голосом): Нет, нет, нет… Так не должно было быть… Не должно…
КРИСТИНА (вбегая и тотчас захлопывая за собой дверь): Лиза! Неужели это правда?!
Лиза молча смотрит на Кристину.
КРИСТИНА: Значит, правда… (опускается рядом с Лизой) Не могу поверить… Он же несколько часов назад был здесь… Говорил, шутил… Как же это страшно… А если… Глеб?.. Женька?.. (прижимает руку ко рту) Простите! Глупость сморозила…
Лиза прижимает Кристину к себе. Пауза.
ЛИЗА (дрожащим голосом): Мама, плачешь?.. Плачь, родная.
Брат убит?.. Безусый? Знаю...
Тихий мальчик синеокий
Где-то там... в степях далёких?..
Твой единый?.. Знаю, мама...
Знать, судьба... Россия, мама,
Просит жертв. Нельзя закрыться,
Отвернуть лицо от милой —
Нужно биться; Смело биться
За неё с чужою силой...
Вспомни, мама, — за Россию
Девятнадцать своих вёсен
В разорённую стихию
Брат в бою с улыбкой бросил!..
КРИСТИНА: С ними же ничего не случится, правда?
ЛИЗА: Я не знаю, девочка… Я больше ничего не знаю… Кроме одного, мы не имеем права… думать о том, что… О чём невозможно думать… Не имеем права быть слабыми… Вот, закончится война, тогда отплачемся. Обо всех… А сейчас нельзя, нельзя… (глотает слёзы)
Не забудут павших в битвах
В нашу русскую разруху –
Будут в песнях и молитвах
Славу петь стальному духу...
Имена их в душу навек
Будут врезаны живыми,
Русь их подвиги прославит,
Русь гордиться будет ими...
Плачь от радости, родная;
Плачь от счастья, что наш милый,
Край родной оберегая,
Пал в бою с чужою силой...[2]
ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ: Елизавета Викторовна! Там Нечипоренко вас зовёт!
ЛИЗА: Иду! Уже иду…
Акт 4.
Сцена 1.
Передовая. Ополченцы и медики проводят эвакуацию мирных жителей и раненых. Слышны залпы артиллерии. Среди медиков – Лиза и Кристина. Среди ополченцев – Женька.
ЖЕНЬКА (Лизе): Быстрее, мама, быстрее! Слышишь этот гул? Сейчас они опять начнут работать по нам!
КРИСТИНА: Транспорта не хватает. Людей слишком много…
ЛИЗА: Ничего, утромбуемся. Здоровых мужчин не брать. Только женщин, детей, стариков и раненых.
СТАРУХА (сквозь слёзы): Да уж нас не берите. Мы своё отжили. Всё одно помирать. Спасайте детей!
КРИСТИНА: Там у женщин некоторых истерика…
ЛИЗА: Ты сама, главное, не показывай волнение. Мы вывезем всех. И помощь тоже будет оказана всем.
Мимо идут женщины с закутанными в одеяла детьми и немногочисленной поклажей. Несут раненых. Двое ополченцев ведут под руки старика.
ЛИЗА (Кристине): Запомни эту картину, девочка. Когда-нибудь будешь рассказывать детям и внукам о великом исходе… И том, что такое «страшно», и как мало оно соотносится с тем, что кажется таковым людям, этого не видевшим и не пережившим.
Раздаётся грохот.
ОПОЧЕНЕЦ: В укрытие!!! Сейчас накроют!
Люди разбегаются, прячась в наспех вырытых укрытиях.
ЛИЗА: Быстро! Уносите в укрытие раненых! Кристина, быстро уходи!
Ещё один взрыв. Нескольких человек валит с ног. Лиза хватает на руки ребёнка, руки матери которого заняты младенцем, бегом относит его в укрытие, куда прячется и мать.
ЖЕНЬКА (уводя двух стариков): Мама, прячься живо!
ЛИЗА: Сейчас!
БЕЖЕНКА (опустившись на колени): Не могу! Не могу больше! Пусть уже убьёт, наконец!
ЛИЗА (хватая её за руку): Что вы говорите?! Немедленно в укрытие! Как только закончится обстрел, мы уедем! (почти силой уводит беженку в укрытие и возвращается)
Мимо проносят раненого, рядом с которым суетиться Кристина.
ЛИЗА: Кристина, уходи сейчас же!
КРИСТИНА: А вы?!
ЛИЗА: Я должна проконтролировать, чтобы никого не осталось! Иди же!
Кристина убегает вслед за носилками. Лиза видит растерявшуюся старуху.
ЛИЗА: Бабушка, идёмте скорее в укрытие!
Лиза быстро отводит старуху к укрытию и передаёт спешащему навстречу ополченцу.
ОПОЛЧЕНЕЦ: Доктор, идёмте с нами!
ЛИЗА: Сейчас! Только проверю, не осталось ли кого-то ещё…
Ополченец и старуха уходят.
ЛИЗА: Кажется, все…
Лиза оборачивается, чтобы уйти. В этот момент раздаётся взрыв. Лиза вздрагивает и падает на землю.
КРИСТИНА (выбегая из укрытия и бросаясь к ней): Лиза!
ЛИЗА: Уходи, Кристина! Уходи!
Кристина склоняется над ней.
ОПОЛЧЕНЕЦ (также выбираясь из укрытия): Доктор, вы ранены?!
ЛИЗА: Нет… Я… убита… Уходите оба. Вы мне уже не поможете…
ЖЕНЬКА (бросаясь к матери): Мама! (наклоняется к ней, приподнимает её голову) Сейчас, мам, сейчас… Где болит, а? Мам, ты не умирай только! Слышишь?! Мама! Ответь!
ЛИЗА (проводя рукой по лицу): Мой бедный, храбрый мальчик…
КРИСТИНА (сквозь слёзы): Нет! Этого не может быть! Мы отвезём вас в больницу!
ЖЕНЬКА: Тебя вылечат, мама!
ЛИЗА: Оставьте оба… Уходите… Я врач и знаю, что говорю. Надо же как просто всё… Как просто… Когда обстрел закончится, вывезите всех. Непременно, всех! Я обещала, что мы никого не оставим…
ОПОЛЧЕНЕЦ (дрогнувшим голосом): Я сам прослежу за этим. Даю слово.
ЛИЗА (проводит по волосам склонившейся над ней Кристины): Не плачь, девочка. Позаботься о папе и о Женьке. Больше некому теперь… Больше некому…
КРИСТИНА (плача): Я обещаю, Лиза! Я вам обещаю. Я позабочусь… И как только кончится война, поступлю в медицинский… Я сделаю, как вы хотели! Только не умирайте, пожалуйста! Лиза! Лиза!
ЖЕНЬКА: Мама! Нет! Нет! Не смей умирать! Мама! Ты не должна!..
ОПОЛЧЕНЕЦ: Она не слышит вас. Унесём её скорее. Сейчас будет очередная волна…
Женька с криком ударяет кулаками о землю и плачет. Кристина, рыдая, обнимает его за плечи.
КРИСТИНА: Идём, Женечка, идём! Она так хотела! Идём!
Ополченец поднимает Лизу на руки и направляется к укрытию. Женька резко вскакивает, сам берёт мать на руки и, целуя её, уносит. Кристина и ополченец уходят следом.
Сцена 2.
Дом Лохвицких. Гостиная. Коптит печь-буржуйка. Окна закрыты ставнями. На стене – большой портрет Лизы с траурной лентой. Тепло одетый и укрытый пледом Виктор Викентьевич сидит перед ним в своём кресле. Кристина прибирается.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Сегодня сорок дней. Сорок дней, как её нет… Кажется, это было вчера. Без неё наш дом опустел. Она была его душой, а теперь душу вынули. А мы ведь даже не понимали этого… Мы были слишком заняты, чтобы что-то понимать о тех, кто был рядом, чтобы их услышать. Она одна только и умела слышать всех. Это был её дар - слушать, слышать, понимать…
КРИСТИНА: Она была такая молодая… На похоронах всем казалось, что Женька её брат.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Он очень повзрослел, изменился… Дети войны всегда взрослеют быстрее.
Входит Анна.
АННА: У меня прекрасная новость! Через несколько часов приедут друзья Эдуарда, чтобы забрать нас отсюда и вывезти в Россию. Он всё-таки сдержал слово! Мы наконец-то уедем!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Я рад за тебя, Аня.
АННА: Только за меня?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: И за детей разумеется.
АННА: А за себя?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Я никуда не поеду.
АННА: То есть как?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Я не оставлю свой дом.
АННА: Прошу тебя, папа! Не говори ерунды! Как ты собираешь остаться здесь один? Ведь ты просто погибнешь!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Ничего. Тысячи стариков выживают так. В одиночестве. Я не лучше их.
АННА: Выживают? Они умирают, папа! От лишений!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: И я не лучше их. Со своей земли и из своего дома я не побегу. Здесь я родился. Здесь прожил всю жизнь. Здесь родились все вы. Здесь похоронены мои родители, жена, дочь. И я тоже хочу умереть здесь и быть похороненным с ними рядом.
АННА: Родился! Попочка, когда ты здесь родился, на этом месте была халупа!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Да. И я всю жизнь превращал её в дом, где было бы место всем.
АННА: Вместо того, чтобы продать её и купить квартиру в городе!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: У твоего мужа была квартира в городе. Но почему-то вы оба предпочитали жить здесь.
АННА: Мне было жаль оставлять всех вас…
КРИСТИНА: Бесплатное обслуживание вам было жаль оставлять!
АННА: А ты молчи! Ты здесь никто!
КРИСТИНА: Не здесь! А для тебя и отца! А для Лизы я не была никем!
АННА: Ладно, прости. Не будем ссориться. Нам нужно собирать вещи. Папа…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Я всё сказал. Я не покину этот дом.
АННА: Но ведь это не навсегда! Мы вернёмся!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Нет, Аня. Если я уеду, то уже не вернусь. Моё место здесь. И я отсюда не двинусь. И, если даст Бог, дождусь здесь и Лёню, и Женю, и тебя… И всех уцелевших.
АННА: Если бы я могла увезти тебя силой…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Слава Богу, я пока не столь немощен, чтобы со мной можно было так обойтись.
АННА: Воля твоя… Ты не оставил мне выбора. Но не говори потом, что мы тебя бросили! Кристина, идём собираться. У нас мало времени! Нужно собрать детей…
Сцена 3.
Комната Анны. Кристина и Анна покуют чемоданы. Раздаётся звонок в дверь.
АННА: Неужели это они? Так скоро?
КРИСТИНА: Я открою.
Кристина уходит и через некоторое время возвращается взволнованная.
АННА: Это они?
КРИСТИНА: Нет… Там сообщили, что Леонид пропал…
АННА: То есть как это пропал?
КРИСТИНА: Машина свернула не туда, напоролась на укропский блокпост. Кажется, он попал в плен…
АННА: Боже… Как невовремя! Папа!
Кристина зажимает Анне рот.
КРИСТИНА: Вы с ума сошли? У деда и так сердце больное! Он ничего не должен знать!
АННА: Может, ты и права… Будем надеяться, что всё обойдётся. Из плена ведь возвращаются.
Снова звонят в дверь.
АННА: Ну уж это точно они! Иди открой, а я одену детей! Слава Богу! Слава Богу! Конец кошмару! Завтра я буду в Москве и забуду всё это, как страшный сон!
Кристина уходит.
Сцена 3.
Гостиная. Виктор Викентьевич сидит в своём кресле.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Вот, и дожили… Если бы кто-нибудь сказал мне, что свои последние дни я проведу в положении одинокого всеми оставленного старика, я бы не поверил. Теперь со мной остались лишь тени. Тени тех, кого я любил. И кто, я знаю, где-то там любит меня. Не самое плохое общество. А ещё мои книги… И эти стены… Мои дети не знают значения слова «Дом». Я не сумел научить их этому. Внуки – тем более. Они не знают, что у дома есть душа. Может быть, Лиза знала или догадывалась. Только она. Наверное, я всё же заслужил своё одиночество. Я был слишком отстранён от всех, кому был нужен. Я любил мою жену, но, когда она умирала, избегал лишний раз видеть её. Все считали это моей жестокостью, эгоизмом. А мне было страшно… Страшно видеть, как она уходит. И хотелось, чтобы в памяти моей она оставалась ещё живой, ещё полной сил… Эгоизм, трусость… И гордость. Меня всегда хватало на долгие мудрые наставления, но не хватало на малость – на то, чтобы сказать, что люблю их. Аню, Лёню, Лизу… Они тоже выросли такими – слишком гордыми, чтобы сказать такие простые слова. Все кроме Лизы. Она любила всех. И не стыдилась этого. Что ж, за всё надо платить… И, вот, на исходе дней я окружён тенями. Всё верно. Всё так и должно быть.
КРИСТИНА (выходя из темноты): Может быть, вы разрешите мне рассеять общество теней своим присутствием?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ (обернувшись): Разве вы не уехали? Я слышал, как отъезжала машина.
КРИСТИНА: Они уехали, а я – нет.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Почему ты осталась? Разве ты не хочешь вырваться из этого ада? В Москве у меня была бы совсем другая жизнь!
КРИСТИНА: В которой я вновь стала бы никем… Нет уж, довольно. Довольно я была никем. Лишь в этот год я стала собой, и я не хочу возвращаться назад. Моему отцу я не нужна. А здесь… Я нужна в больнице, где почти не осталось медиков, но всё ещё так много больных. И… мне кажется, я нужна вам…
Пауза.
Виктор Викентьевич манит Кристину рукой. Та подходит и опускается на пол возле его кресла.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Ты никогда не слышала от меня ни одного доброго слова.
КРИСТИНА: Меня это всегда очень обижало. Но и от меня никто не слышал здесь ничего, кроме злых и язвительных выпадов, пререканий…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: В тебе говорила обида. Справедливая. В твои годы это естественно и простительно. А в мои нужно было быть мудрее и внимательнее к живым людям. А я был внимателен к теням нашего прошлого, коим посвящал больше времени, чем собственным детям. Прости, я не сознавал, что причиняю тебе боль.
КРИСТИНА: Знаете, о чём я часто мечтала?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: О чём же?
КРИСТИНА: Я мечтала, чтобы у меня был дед… Своего отца я не люблю, как и он меня. И, вот, я думала, что, если бы мой дед был жив, то наверняка бы уж он-то любил меня! И понимал… И я бы приходила к нему со всеми моими бедами, радостями, вопросами, всё бы рассказывала. А он – понимал…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: С некоторых пор ты напоминаешь мне Лизу.
КРИСТИНА: Я кое-что обещала ей перед смертью…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Ты была с ней в самые тяжёлые для неё дни, до последней минуты. В отличие от Ани она привязалась к тебе, как к дочери. Я буду рад заменить тебе деда, хотя и не могу обещать, что это будет дед твоей детской мечты. (гладит Кристину по голове) Ничего-ничего. Скоро весна, станет легче. А там, глядишь, Лёня вернётся… И Женя…
КРИСТИНА: Только Лиза уже не вернётся…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: «Не будем говорить «их нет», но с благодарностию «были»». Так Жуковский писал.
КРИСТИНА: У меня так не выходит… У меня всё затмевает «их нет»…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Я тебя понимаю. Но мы должны быть сильными и учиться в Василия Андреевича…
Сцена 4.
Комнаты Анны. Кристина спит на её кровати. Раздаётся птичий свист. Кристина просыпается и прислушивается. Свист раздаётся вновь. Кристина, полностью одета, вскакивает, отбросив одеяло, и спешно открывает окно.
КРИСТИНА: Глеб!
В окне появляется Глеб и с помощь Кристины влезает в комнату.
КРИСТИНА: Тише! Дед спит!
ГЛЕБ: А остальные?
КРИСТИНА: Лиза погибла. Леонид у вас в плену. Женька на фронте. Аня и Эдуард в Москве.
ГЛЕБ: А ты почему не уехала с ними?
КРИСТИНА: Я обещала Лизе перед смертью заботиться о деде. И больницу не могу оставить.
ГЛЕБ: Ты изменилась.
КРИСТИНА: Что ты здесь делаешь?
ГЛЕБ: Не бойся, я теперь человек мирный.
КРИСТИНА: Вот как? Что же с тобой случилось?
ГЛЕБ (садясь на кровать): Долгая история, Мышь… Наш отряд стоял неподалёку от дороги на большую землю. Наша артиллерия по ней регулярно долбила, чтобы никто по ней ни из России, ни в Россию не ездил.
КРИСТИНА: По ней мирные люли от ваших обстрелов бежали!
ГЛЕБ: Да не понимал я тогда ничего! В общем, в тот день опять эту дорогу накрыли. А мы потом подошли посмотреть, что там. А там… Там машина стоит разбитая, а в ней мужик мёртвый, его жена и сын малолетний… Он, видать, просто семью вывозил… Ни оружия при них не было, ничего. А мать ещё успела дочурку лет трёх собой накрыть. Девчушка жива осталась, но раненая. Я её писк из-под тела матери услышал, вытащил. Вот, тут меня переклинило. От глаз её, от её ужаса. И от лица брата её убитого… Так тошно стало, что сказать не могу. Я же, когда о жертвах среди мирных слышал-читал, всё думал – пропаганда колорадская. А тут своими глазами увидел! Мальчонку мёртвого, мать… И девчушка в крови вся на руках у меня пищит. Я себя убийцей почувствовал. Хуже убийцы. Чикатилло каким-то, выродком. В общем, девчушку я с собой взял. А врача при нас нет. Да и командир наш рукой машет: «Всё одно помрёт!» Дождался я ночи. Вижу – совсем плоха моя девчушка. А наши у костра сидят, жрут, пьют. И плевать они хотели! Решил я к вашим идти. Думаю, отдам девчушку, а сам в плен сдамся. По темноте пошёл. А твари эти, представляешь, углядели! И давай мне вслед лупить! Попали… На одну ногу до сих пор припадаю. Ну, свалился я: думаю, всё, конец. А тут с другой стороны ваши огонь открыли – припугнули наших. Так я до ополченских позиций и дополз. «Делайте, - говорю, - со мной, что хотите: только девчушке помогите!» Её сразу в госпиталь повезли. И меня тоже. Лечить стали… Допросили, само собой, но и только. Наши с пленными совсем иначе обходились. В общем, пока я в больнице лежал, много всего передумать успел. Понял, каким козлом был… А ещё понял, что никогда больше не хочу ни в кого стрелять. Ополченцы мне предлагали в их ряды вступить. Да я отказался. Опять же хромой я теперь. К своим мне теперь нельзя – или зашибут, или снова автомат в руки и вперёд. Вот, пришёл сюда… Как дальше быть, не знаю.
КРИСТИНА: Деду тебе пока лучше не показываться. Он тебя преступником считает. А за то, что в ополчение не вступил, объявит дезертиром. Документы есть у тебя?
ГЛЕБ: Есть. Республиканские выдали.
КРИСТИНА: Тогда я попытаюсь найти для тебя место в больнице. У нас ведь тяжёлые больные. А им толком помочь некому. Мужчин-медиков вовсе не осталось, несколько девочек да пара пожилых докторш… А жить можешь в доме своей бабки. Переднюю его часть разворотило, но пара комнат с печкой целы. А хозяева давно уехали.
ГЛЕБ: Спасибо тебе, Мышь! Ты у меня теперь единственный родной человек! (обнимает её)
КРИСТИНА: Я так рада, что ты вернулся! Ты! Прежний! Я все эти месяцы не переставала тебя ждать!
ГЛЕБ: А я рад, что ты дождалась. Хотя… Может быть, лучше было бы, чтобы ты сейчас была в Москве.
КРИСТИНА: Почему?
ГЛЕБ: Потому что там бы ты была в безопасности. А что здесь? То обстрелы, то мародёры разбойничают – наши ли, ваши ли – уже и не разберёшь. Но теперь я тебя охранять буду. Всегда!
Глеб целует Кристину, и они на несколько мгновений замирают в этом поцелуе.
Сцена 5.
Гостиная. Кристина возится у печи. Виктор Викентьевич читает книгу.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ (читает): «Эта ликвидационная эпоха, несмотря на необыкновенность замыслов своих, по существу не была творческой. Она лишь подводила итоги тысячелетней работы человеческого самоутверждения по всем областям жизни, всюду изгоняя Божественный закон и всюду поставляя высшим законом человеческое желание и рассуждение. Народы погружались в бедность и необеспеченность, беспрерывно переходя от полукрепостного состояния к состоянию дикого произвола, в течение которого каждый, смотря по силе и удаче, захватывал себе кусок пожирнее так же легко, как вслед за тем терял его. Такая жизнь раздражала всех тем сильнее, что стремление к чувственным благам наполняло все сердца, составляло главное содержание человеческих пожеланий. Страшные гражданские войны, переходящие часто в международные, довершали общее разорение. Утомленные и разочарованные народы готовы были отдаться кому угодно, лишь бы их вырвали из такой невыносимой жизни». (откладывая книгу) Воистину Тихомиров велик! Предсказал всё в точности! Вот, Кристина, в какую эпоху мы живём! Предапокалиптическую, ликвидационную. И ополчение наше ничто иное, как прообраз того последнего войска Правды, в котором неважны уже будут ни партии, ни кровь, ни даже религиозная принадлежность, а одно только – с Антиподом ты или против него.
КРИСТИНА: Мне казалось, что всё происходящее куда прозаичнее. Всё из-за «бабла» ведь в конечном итоге.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Это не в конечном, а как раз в самом поверхностном, видимом. Материальное намертво связано с духовным. Чтобы явился Великий Устроитель, должна быть подготовлена почва. Мир должен быть ввергнут в хаос, а финансы, власть сосредоточены в одних руках. Это и происходит. Одна за другой уничтожаются и ввергаются в кровавое месиво независимые государства. В них даже не пытаются наводить порядок. Такой цели не стоит. А цель превратить эти некогда цветущие края в сплошную зону нестабильности и взять под контроль их богатства. Теперь, наращивая темпы, добираются и до России, используя несчастную Украину лишь в качестве топора…
КРИСТИНА: И что же, неужели ничего нельзя сделать?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Это уже судьбы Божии. Нам их знать не дано. Впрочем, мы могли бы остановить, замедлить это наступление, если бы были стойки в правде. А что мы? Рулевые заняты лишь интересами корпораций, своего кошелька. А людям в массе своей важно лишь мирное небо над головой… Донбасс поднимался за свободу и справедливость, за народовластие, совесть. А в итоге позволили оттеснить или убить стоявших в правде и установить те же порядки, против которых боролись. Сделали в сущности то же, что и майданщики, сменившие одного олигарха на другого под лозунги о борьбе с коррупцией. Это ведь не кто-то сделал. Мы сами. Допустили… Смирились… Не нашли в себе сил отстаивать правду… Это естественно, конечно. Потому что люди в массе своей не готовы к подобному стоянию, подвигу, жертве. Они просто хотят жить. Осуждать это невозможно. Но… в этом наша погибель. Подвижников слишком мало. И они сразу оказываются на виду. Они поднимают головы, и уравнительный меч тотчас сносит их…
Раздаётся резкий стук в дверь. Грубый голос снаружи: «Открывайте, или высадим дверь!»
КРИСТИНА: Кто это?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Не знаю… Спрячься на чердаке.
КРИСТИНА: Нет, я вас не оставлю.
Стук в дверь становятся всё сильнее.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Делай, что говорю. Я открою, иначе они точно высадят дверь.
Кристина уходит. Виктор Викентьевич идёт открывать.
Сцена 6.
То же. Виктор Викентьевич, пятясь, возвращается в гостиную. На него надвигаются двое вооружённых мародёров.
1-Й МАРОДЁР: Старик, ты один? Славно! Не будешь нам мешать, калечить не будем.
2-й мародёр начинает рыскать по дому, переворачивая всё вверх дном и забирая ценное. 1-й мародёр держит под прицелом Виктор Викентьевича.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Мерзавцы!
1-Й МАРОДЁР: Что ты там вякнул?! (ударяет его прикладом) Я тебе покажу мерзавцев, старая сволочь!
Виктор Викентьевич падает на пол. 1-й мародёр ударяет его ногой.
1-Й МАРОДЁР: Зашибу, падлюка!
КРИСТИНА (вбегая): Не трогайте его! Он же старый и больной человек!
1-Й МАРОДЁР: И то верно! Зачем нам эту старую заваль трогать, когда тут такая краля? (хватает Кристину и прижимает к себе) Братку, глянь, что тут!
2-Й МАРОДЁР: Удачно зашли. Я вторым на очереди буду!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ (хрипло): Отпустите её!
2-Й МАРОДЁР (ударяя его): Заткнись!
КРИСТИНА: Помогите!
1-Й МАРОДЁР (зажимая ей рот и таща к дивану): Ну-ну, не ерепенься! Что, никогда не пробовала? Ну, так тем лучше! Научим! Мы учителя хорошие! Тебе понравится!
2-й мародёр с гоготом идёт за первым. Они заваливают отбивающуюся Кристину на диван, рвут на ней одежду.
В этот момент в комнату врывается Глеб с пистолетом в руках и стреляет в воздух.
ГЛЕБ: А ну, отвалили от неё немедленно, ублюдки! Или зараз положу обоих!
Мародёры неохотно оставляют Кристину.
1-Й МАРОДЁР: Ну, всё, хлопчик, ты нежилец!
ГЛЕБ: Ты тем более. Я дал слово никогда больше не стрелять в людей, но Бог знает, с каким бы удовольствием я его сейчас нарушил! Бросьте вещи и валите, пока я этого не сделал! Ну!
Мародёры бросают награблённое и уходят, шепча сквозь зубы угрозы. Глеб следует за ними, не опуская пистолета.
2-Й МАРОДЁР (оборачиваясь от двери): Мы ещё сюда вернёмся!
ГЛЕБ: Поговори мне ещё, гнида! (толкает его в спину и выходит следом)
Кристина вскакивает на ноги и бросается к Виктору Викентьевичу.
КРИСТИНА: Виктор Викентьевич! Вы как?! Вы живы?!
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ (слабо): Жив… Жив… Ты не должна была выходить…
КРИСТИНА: Они бы вас убили! (помогая Виктору Викентьевичу подняться и усаживая его в кресло)
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Невелика беда. (прикладывает руку к груди)
КРИСТИНА: Что сердце? Сейчас!
Кристина бросается в соседнюю комнату и через секунду возвращается с таблеткой и стаканом воды.
КРИСТИНА (подавая их Виктору Викентьевичу): Выпейте скорее, отпустит.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ (выпив таблетку): Спасибо, мне уже легче…
ГЛЕБ (возвращаясь): Убрались. (Кристине) Как ты?
КРИСТИНА (бросаясь ему на шею): Со мной всё хорошо! Но если бы не ты!.. Если бы не ты!.. (плачет)
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Ну, вот. Наконец-то изволил показаться. А я всё ждал, ждал…
КРИСТИНА (оборачиваясь): Вы что же, знали, что он вернулся?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Девочка моя, я же не слепой и не идиот. Я видел, как ты к нему бегаешь.
КРИСТИНА: Что же молчали?
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Что же ты не рассказывала?
КРИСТИНА: Я боялась, что вы рассердитесь.
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: А я не хотел быть излишне любопытным. (протягивает Глебу руку) Спасибо тебе, Глеб! Без тебя мы бы и впрямь пропали.
ГЛЕБ (пожимая его руку): Я стыдился показаться вам на глаза, Виктор Викентьевич. Я очень виноват перед всеми вами. Я…
ВИКТОР ВИКЕНТЬВИЧ: Не продолжай. Ты желанный гость в этом доме, и я хочу, чтобы отныне ты оставался здесь. Комнат свободных, сам видишь, довольно. Отказа не приму.
ГЛЕБ (улыбнувшись): Спасибо! Я только рад… (косясь на Кристину)
КРИСТИНА: А откуда у тебя пистолет? Ведь ты сказал, что не хочешь стрелять в людей.
ГЛЕБ (пряча пистолет в карман): Не хочу. Но когда кругом столько шакалов и гиен, нужно быть готовым защитить себя, тех, кого любишь, и тех, кто не может защитить себя сам.
Сцена 7.
Гостиная. Празднично накрытый стол. За столом Виктор Викентьевич, Кристина и Глеб.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Настоящий праздничный ужин! Картошка в мундире, рыбные консервы, черняшка… Даже какое-то суфле на десерт! Что ещё надо для жизни…
ГЛЕБ (смеясь): Шампанского!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Чего нет, того нет! Ничего, (приподнимая кружку) чаем почокаемся. С сахаром!
КРИСТИНА (вносит суповницу и ставит на стол): Всё! Как говорится, кушать подано!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Ба! Даже суп!
КРИСТИНА: Скорее похлёбка. Но, по-моему, ничего, съедобная. Гулять - так гулять!
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Правильно. Помолвка в жизни не так часто бывает. Если везёт, то лишь однажды. Мне в этом смысле повезло. Мы с моей Галочкой познакомились ещё студентами в Крыму. Было лето, солнце, белый песок, море… И Галочка словно сливалась со всем этим, была частью этого. Я не знаю, вероятно, были женщины красивее, но для меня никого прекраснее Галочки не было. Так было всегда… Наверное, те первые годы нашей совместной жизни были самыми лучшими для нас обоих. Ваш совместный путь начинается на совсем ином фоне, но я верю, что вы будете счастливы. Этому дому уже давно не хватает счастья. И вы возвращаете его в эти стены.
Глеб обнимает и целует Кристину. Виктор Викентьевич с улыбкой смотрит на них.
КРИСТИНА: А я верю, что эти стены помогут нашему счастью.
Кристина разливает по тарелкам суп. Глеб хватает картофелину и запихивает её в рот.
КРИСТИНА (грозя ему половником): Не стыдно? Нас подождать не можешь?
ГЛЕБ: Прости, с утра не жр… голодный в общем.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Девочка моя, налей нам немного чаю. Прежде чем мы приступим к нашей прекрасной трапезе, я хотел бы сказать небольшой тост.
Кристина послушно наполняет кружки. Виктор Викентьевич встаёт.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Нас сегодня только трое за этим столом. И я хочу выпить за тех, кого нет с нами. И за то, чтобы те, кого мы ждём, вернулись. Те же, кто ушёл в иной мир, всегда с нами. В наших сердцах, в нашей памяти. Да, нас сейчас лишь трое, но все, и живые, и мёртвые, о ком думаем теперь мы, и кто думает, помнит о нас, также здесь, в этой комнате.
На заднем плане друг за другом появляются Лиза, Леонид, Алексей, Женька. Они замирают на равном расстоянии друг от друга вдоль комнаты.
Виктор Викентьевич, Глеб и Кристина чокаются и пьют чай, затем ещё несколько мгновений стоят неподвижно, словно думая каждый о своём.
ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ: Мы живём в грозное время, дети. И, чтобы выжить в нём, мы все, (слышите?) все должны стать Добровольцами. Каждый на своём месте. Воины на передовой, другие – в тылу, где работы, требующей самоотверженного и жертвенного служения, тоже непочатый край. Мы все должны служить. Не за страх, а за совесть. Насколько достанет наших сил. Линии фронта нет теперь. Кругом нас – наш фронт. Русский фронт. И мы его солдаты, служба которых бессрочна, как замечательно точно написал об этом наш убитый в Одессе поэт Негатуров.
У двуглавых орлов окантованы золотом перья…
Для двуглавых орлов неизменен имперский статут…
Между злом и добром, на границе Духовной Империи
Добровольцы-Солдаты безсрочную службу несут.
АЛЕКСЕЙ: Впереди, в темноте, - злое воинство чёрной материи,
В полумгле пограничной - шпионы, иуды, ворьё…
Умываются потом кровавым Солдаты Империи,
Шаг за шагом в боях расширяя границы её.
ЛЕОНИД: ХуторскИе народцы путь жизненный сытостью меряют;
Жаждет славы позёр; торгашу - лишь в процентах резон…
Эти страсти скуднЫ для Солдата Духовной Империи:
Тесен хутор ему; мир барыг и позёров смешон!
ЛИЗА: Деньги, слава и власть добровольцу отнюдь не критерии,
Страх - не стимул ему, а чины - не мерило ему,
Но святая награда Солдату Духовной Империи -
- Поступь Божьих побед - дивный свет, прожигающий тьму.
АЛЕКСЕЙ: Ни опричникам грозным - дзержинским, скуратовым, бериям,
Ни царям, ни генсекам, ни лидерам скотских эпох
Не даётся никак власть над сердцем Солдата Империи,
У солдатского сердца один государь - только Бог.
ЖЕНЬКА: Строй бойцов невелик, но зато не редеет с потерями -
- Все у Господа живы! И каждый, кто в Вечность уйдёт,
Остаётся и там Вечным Воином Вечной Империи,
Путь к победам земным освящая с Небесных Высот.
ЛИЗА: А на грешной земле, твёрдо в принцип имперский уверовав,
В строй становятся те, чьи сердца - драгоценный кристалл.
И не знают порой добровольцы-Солдаты Империи,
Что на ратную службу их сам Вседержитель призвал.
АЛЕКСЕЙ: Строго спросится с них - ведь избранники Божьи тепЕрь они!
Будет сила дана им - прямая Небесная связь!
И простится им многое - честным Солдатам Империи -
- И войны неизбежная кровь, и окопная грязь…
[1] Песня полковника Александра Чикунова[2] Стихи Николая Келина
* * *
О ГОСПОДИ СИЛ...
Елена Семёнова
О Господи Сил, это мы,
Земное Твоё ополченье.
Из смертного плена зимы
Навстречу весны свеченью
Мы встали, отринув прах
Сует и забав беспечных,
Грядущего слыша утра
Зов тихий на бой предвечный.
Не алчба ведёт нас, не месть -
Предвестья кровавого всхода.
Но вера. Но правда. Но честь.
И долг перед памятью рода.
О Господи Сил, это мы,
Оболганные, убитые,
Воскресшие вновь из тьмы
Любимых святыми молитвами.
И преданные стократ,
И брошенные в окруженье,
Всевышний, мы крест Твой свят
Не отдали на глумленье.
В поруганных храмах Твоих
Исполнено всё благодатью,
Какой не отыщешь в иных.
И все мы здесь сёстры и братья.
Царицы Небесной Покров
Заменит пробитые крыши,
И жаром молитвенных слов,
К тебе устремлённых, всё дышит.
О новороссийском краю,
О нашей Руси Триединой,
О жизнь положивших свою,
О страждущих ныне безвинно,
О воинах идущих на рать.
Сердец воздыханию внемли!
Дай силы в Тебе устоять,
Спасти нашу грешную землю.
Мы гордые смирим умы,
Твоя да исполнится воля.
О Господи Сил, это мы -
Солдаты Твои в ратном поле.
* * *
DOES CULTURE COUNT? Dr. Vladimir Moss
Many contemporary Russians take great pride in the culture of Soviet Russia, and see it as proof of their superiority to the West. A recent example is a speech given by Patriarch Cyril of Moscow at the 70th anniversary of the foundation of the Moscow Patriarchate’s Department of Foreign Relations. As Alexei Nikolsky writes, "he noted that even the communist authorities of the Soviet Union did not dare ‘to blow up the moral basis of the life of society’, which, in his words, as a whole remained Christian. ‘This is what saved us: our literature and figurative art were penetrated by Christian ideas, and the morals of the people remained Christian.’"
Of course, there is no denying that there were great artists even in that most barbaric and uncultured period of Russian history. Nor can we deny that there were Christian themes in some of their works – we think of Bulgakov’s The Master and Margarita, Pasternak’s Doctor Zhivago and Akhmatova’s Requiem. But to suppose that the Bolsheviks did not dare "to blow up the moral basis of society", or that these very few works of quality (usually circulated only in samizdat in view of the authorities’ hostility) in any way justified Soviet society, or that because of them "the morals of the people remained Christian" is not simply mistaken - it is blasphemous.
*
Before analyzing the patriarch’s claim in more detail, let us first ask ourselves: what does Christianity have to say about culture?
Now the Lord says nothing directly about culture. Indirectly, however, He makes it clear that high culture does not constitute part of "the one thing necessary" for salvation. For He was incarnate in one of the least cultured regions of the Roman empire, and deliberately chose uneducated fishermen to be His apostles. Even the Jews looked down on uncultured Galilee: "Can anything good come out of Nazareth?" (John 1.46). And yet it was from the fishermen of Galilee that true enlightenment came to the world…
The most educated of the apostles was St. Paul, who came from the Greek city of Tarsus and was trained in the law by great rabbinic teachers such as Gamaliel. And yet, while freely acknowledging his debt to Greek philosophy, he, too, says nothing directly about culture. Evidently, he felt that it was not essential for salvation, noting that not many highly cultured, educated or powerful people were being saved. "For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise,… that no flesh should glory in His presence" (I Corinthians 1.26-27, 29).
But of course, insofar as the roots of culture lie in religion, - the word "culture" comes from cultus, "religious worship", - and insofar as the religion of the Greco-Roman world was pagan, and linked with such immoral activities as temple prostitution, the preachers of the Christian faith could not be simply indifferent to the culture around them. And as Fr. Georges Florovsky writes, we find a definitely negative attitude towards the music, painting and especially the rhetorical art of their time in such early Christian writers as Tertullian and Origen. For "the whole of the culture of that time was built, defined and penetrated by a false faith. One has to recognize that some historical forms of culture are incompatible with the Christian attitude to life, and must be avoided or cast out." In accordance with this attitude, Tertullian said: "What has Athens to do with Jerusalem?", and the martyrs destroyed idols and pagan temples because they were not just what we would call cultural monuments but witnessed to false religion. The modern attitude of valuing them for their aesthetic beauty or "cultural value" was unknown to them.
Not that it is impossible, or always wrong, to dissociate a work of art’s original religious meaning from its aesthetic value. Indeed, this is part of what was involved in the fusion of Christianity and Hellenism that began in the fourth century: the forms of ancient Hellenistic culture – its philosophical concepts, artistic conventions and architectural shapes – were dissociated from their original content and context in the worship of false gods and turned and transformed into the service of the true God. Thus ancient Egyptian portraiture was transformed into the iconography that we see today in St. Catherine’s monastery in Sinai, while the architecture of the Pantheon in Old Rome was transfigured out of all recognition into the cathedral of Hagia Sophia in New Rome. The resulting synthesis was the glorious civilization of Byzantium, the core or cradle civilization and culture of the whole of Christendom, East and West, for the first millennium of Christian history, and of the Orthodox East until the eighteenth century.
This creation of a Christian culture to replace the pagan culture of the pre-Christian Greco-Roman world, was not only not a matter of indifference or little importance to the Church, but a task of the greatest importance for her. For whether we understand "culture" in the narrow sense of "a position or orientation of individual people or human groups whereby we distinguish ‘civilized’ from ‘primitive’ society", or in the broader sense of "a system of values" , all men living in society – and even monks living in the desert – live in a culture of some kind, and this culture inescapably influences their thoughts and feelings for better or for worse. Culture counts because it influences faith – as faith influences culture. So the formation of the culture of Christian Byzantium was not, as Fr. George Florovsky writes, "what historians of the 19th century usually called ‘the Hellenization of Christianity’, but rather the conversion of Hellenism. And why should Hellenism not be converted? After all, the acceptance of Hellenism by Christians was not simply a servile perception of an undigested pagan heritage. It was the conversion of the Hellenistic mind and heart.
"In fact, this is what happened: Hellenism was cut through with the sword of the Christian Revelation and thereby completely polarized. We must call Origen and Augustine Hellenists. But it is completely obvious that this is another type of Hellenism than we find in Plotinus or Julian. Of all Julian’s directives the Christians hated most of all the one that forbade their preaching of the arts and sciences. This was in reality a belated attempt to exclude Christians from the building up of civilization, to separate ancient culture from Christian influence. In the eyes of the Cappadocian Fathers this was the main question. St. Gregory the Theologian lingered on it for a long time in his sermons against Julian. St. Basil the Great considered it necessary to write an address ‘to young people about how they could draw benefit from Hellenistic literature’. Two centuries later, Justinian excluded all non-Christians from scholarly and educational activity and closed the pagan schools. There was no hostility to ‘Hellenism’ in this measure. Nor was it an interruption of tradition. The traditions were preserved, and even with love, but they were being drawn into a process of Christian reinterpretation. This is the essence of Byzantine culture. It was the acceptance of the postulates of culture and their re-evaluation. The majestic church of the Holy Wisdom, the pre-eternal Word, the great church of the Constantinopolitan Sophia, remains forever a living symbol of this cultural achievement."
There is no obvious correlation between culture and sanctity. Most of the early Christians and martyrs were uneducated slaves, and there was very little specifically Christian art before the fourth century. Nevertheless, it is clear that the great culture of Byzantium was necessary for the survival of Christianity down the ages. In this sense Christian culture was necessary in the same way that Christian statehood was: as a bulwark defending the Church from the outside. We see this most clearly in theology: the theological achievements of the Ecumenical Councils, and the refutation of the heresies that arose at that time, would have been unthinkable outside the sophisticated philosophical language and culture that the Greeks inherited from Plato and Aristotle. But nobody suggested that mastery of Byzantine art and philosophy was necessary to salvation. In a general way, we can see that a decline in piety is accompanied by a decline in culture. This is particularly clear in Western culture, which declines sharply from the Carolingian period in the late eighth century. However, this is by no means a universal rule: some of the greatest products of Byzantine culture were produced in what Sir Steven Runciman called The Last Byzantine Renaissance - the period from 1261 to 1453 that was in general (and in spite of the hesychast saints) a period of religious decline.
*
Russia inherited the fullness of Byzantine culture, and until the eighteenth century essentially all Russian culture was religious and Orthodox Christian. In the eighteenth and nineteenth centuries, however, a specifically secular culture arose, a Russian adaptation of contemporary western heterodox culture; Peter the Great consciously tried to reconstruct the whole of Russian culture on western – Catholic and Protestant – models. This transformation was symbolized especially by the building, at great cost in human lives, of a new capital at St. Petersburg. Situated at the extreme western end of the vast empire as Peter's "window to the West", this extraordinary city was largely built by Italian architects on the model of Venice and Amsterdam, peopled by shaven and pomaded courtiers who spoke more French than Russian, and ruled by monarchs of mainly German origin. In building St. Petersburg, Peter was also trying to replace the traditional idea of Russia as the Third Rome by the western idea of the secular empire on the model of the First Rome, the Rome of the pagan Caesars and Augusti.
As Wil van den Bercken writes: "Rome remains an ideological point of reference in the notion of the Russian state. However, it is no longer the second Rome but the first Rome to which reference is made, or ancient Rome takes the place of Orthodox Constantinople. Peter takes over Latin symbols: he replaces the title tsar by the Latin imperator, designates his state imperia, calls his advisory council senate, and makes the Latin Rossija the official name of his land in place of the Slavic Rus’…
"Although the primary orientation is on imperial Rome, there are also all kinds of references to the Christian Rome. The name of the city, St. Petersburg, was not just chosen because Peter was the patron saint of the tsar, but also to associate the apostle Peter with the new Russian capital. That was both a diminution of the religious significance of Moscow and a religious claim over papal Rome. The adoption of the religious significance of Rome is also evident from the cult of the second apostle of Rome, Paul, which is expressed in the name for the cathedral of the new capital, the St. Peter and Paul Cathedral. This name was a break with the pious Russian tradition, which does not regard the two Roman apostles but Andrew as the patron of Russian Christianity. Thus St. Petersburg is meant to be the new Rome, directly following on the old Rome, and passing over the second and third Romes…"
And yet the ideal of Russia as precisely the Third Rome was preserved; for "neither the people nor the Church renounced the very ideal of the Orthodox kingdom, and, as even V. Klyuchevsky noted, continued to consider as law that which corresponded to this ideal, and not Peter’s decrees."
Throughout the nineteenth century a kind of "cultural war" took place as the two founding elements of post-Petrine Russian culture – Orthodoxy, on the one hand, and westernism, on the other – struggled for predominance. In some writers – Gogol, Tiutchev, Dostoyevsky – we see a Christian content shining through the western forms. In most others (the late Tolstoy especially), we see brilliant form allied to sometimes openly anti-Christian content (his novel Resurrection). We see the same in music, in the contrast between the Christian operas of Glinka (A Life for the Tsar) and Mussorgsky (Boris Godunov, Khovanschina), on the one hand, and the lushly western operas (even if they were based on texts by Pushkin) of Tchaikovsky (Eugene Onegin, The Queen of Spades), on the other. In one and the same composer, moreover, we see different spirits in different works – in, for example, Rachimaninov’s Vespers, on the one hand, and Isle of the Dead, on the other.
The last years before the Great War were a period of revolutionary change throughout Europe, not only in political ideas, but also in art, science and philosophy. In Russia, this revolutionary spirit took particular cultural forms, often religious and esoteric. On Mount Athos, Russian monks tried to identify the Divinity with the created name of Jesus – this was the so-called name-worshipping heresy. This heresy had a kind of cultural reflection inside Russia, as the decadent artists of the Symbolist movement tried to capture the Divinity in artistic symbols. For them, symbolism took the place of religion; it was a new kind of religion, the religion of symbol-worshipping. "In the Symbolist aesthetic," as J.W. Burrow writes, "the intense focusing on the thing taken as a symbol, the perception of its numinous aura, gave access to another, as it were, parallel, invisible world of light and ecstasy."
This "parallel, invisible world of light and ecstasy" was demonic. Thus the Symbolist painter Michael Vrubel achieved fame with a large mosaic-like canvas called "Seated Demon" (1890), and went mad while working on the dynamic and sinister "Demon Downcast" (1902)… Symbolist ideas are most vividly expressed in the music and thought of the composer Alexander Scriabin, who in his First Symphony praised art as a kind of religion. Le Divin Poem (1902-1904) sought to express the evolution of the human spirit from pantheism to unity with the universe. Poème de l'extase (1908) was accompanied by the elaborately selected colour projections on a screen. In Scriabin's synthetic performances music, poetry, dancing, colours, and scents were used so as to bring about supreme, final ecstasy. In 1909, after a spell in Paris with Diaghilev, Scriabin returned to Russia permanently, where he continued to compose, working on increasingly grandiose projects. For some time before his death he had planned a multi-media work to be performed in the Himalayas, that would bring about Armageddon, "a grandiose religious synthesis of all arts which would herald the birth of a new world."
Similar ideas to Scriabin’s on the stage fusion of all arts were elaborated by the poet Andrej Bely and the painter Vassily Kandinsky.
Another of Diaghilev’s composer-protégés, Sergei Prokofiev, was also influenced by Symbolism - and Mary Baker Eddy’s Christian Science. Among the propositions of his theory of creative action were the pagan assertions: "1. I am the expression of Life, i.e. of divine activity. 2. I am the expression of spirit, which gives me power to resist what is unlike spirit… 9. I am the expression of perfection, and this leads me to the perfect use of my time…"
These strivings for mangodhood – in defiance of the only God-Man - among Russia’s creative intelligentsia were associated by them with a revolutionary future that rejected the past more or less totally. Hence the brief fashion for the European movement of Futurism with its radical rejection of the past and all past and present ideas of what is beautiful and tasteful - and its glorification of war. "War," said the Italian Futurist and future fascist Filippo Tommaso Marinetti, "is the sole hygiene of the world."
The futurist obsession with the imagery of restless, continual movement was akin to Trotsky’s idea of permanent revolution - early Soviet culture was similarly obsessed with machine imagery. As Nicholas Berdiaev wrote: "Just as pious mystics once strove to make themselves into an image of God, and finally to become absorbed in Him, so now the modern ecstatics of rationalism labour to become like the machine and finally to be absorbed into bliss in a structure of driving belts, pistons, valves and fly-wheels…"
Fr. George Florovsky described this aesthetic-revolutionary experience as utopian and a kind of "cosmic possession": "The feelings of unqualified dependence, of complete determination from without and full immersion and inclusion into the universal order define utopianism’s estimate of itself and the world. Man feels himself to be an ‘organic pin’, a link in some all-embracing chain – he feels unambiguously, irretrievably forged into one whole with the cosmos… From an actor and creator, consciously willing and choosing, and for that reason bearing the risk of responsibility for his self-definition, man is turned into a thing, into a needle, by which someone sews something. In the organic all-unity there is no place for action – here only movement is possible."
However, the pagan essence of this Russian "silver age" is most evident in perhaps the most shocking of all the works of Russian art in the period: Igor Stravinsky’s ballet, The Rite of Spring. As Oliver Figes writes, "the idea of the ballet was originally conceived by the painter Nikolai Roerich… a painter of the prehistoric Slavs and an accomplished archaeologist in his own right. He was absorbed in the rituals of neolithic Russia, which he idealized as a pantheistic realm of spiritual beauty where life and art were one, and man and nature lived in harmony. Stravinsky approach Roerich for a theme and he came to visit him at the artists’ colony of Talashkino, where the two men worked together on the scenario of ‘The Great Sacrifice’, as The Rite of Spring was originally called. The ballet was conceived as a re-creation of the ancient pagan rite of human sacrifice. It was meant to be that rite – not to tell the story of the ritual but (short of actual murder) to re-create that ritual on the stage and thus communicate in the most immediate way the ecstasy and terror of the human sacrifice…
"Artistically, the ballet strived for ethnographic authenticity. Roerich’s costumes were drawn from peasant clothes in Tenisheva’s collection at Talashkino. His primitivist sets were based on archaeology. Then there was Nijinsky’s shocking choreography – the real scandal of the ballet’s infamous Paris première at the Théâtre des Champs-Elysées on 29 May 1913. For the music was barely heard at all in the commotion, the shouting and the fighting, which broke out in the auditorium when the curtain first went up. Nijinsky had choreographed movements which were ugly and angular. Everything about the dancers’ movements emphasized their weight instead of their lightness, as demanded by the principles of classical ballet. Rejecting all the basic positions, the ritual dancers had their feet turned inwards, elbows clutched to the sides of their body and their palms held flat, like the wooden dolls that were so prominent in Roerich’s mythic paintings of Scythian Russia. They were orchestrated, not by steps and notes, as in conventional ballets, but rather moved as one collective mass to the violent off-beat rhythms of the orchestra. The dancers pounded their feet on the stage, building up a static energy which finally exploded, with electrifying force, in the sacrifical dance. This rhythmic violence was the vital innovation of Stravinsky’s score. Like most of the ballet’s themes, it was taken from the music of the peasantry. There was nothing like these rhythms in Western art music (Stravinsky said that he did not really known how to notate or bar them) – a convulsive pounding of irregular downbeats, requiring constant changes in the metric signature with almost every bar so that the conductor of the orchestra must throw himself about and wave his arms in jerky motions, as if performing a shamanic dance. In these explosive rhythms it is possible to hear the terrifying beat of the Great War and the Revolution of 1917…"
*
When the revolution eventually came, it incarnated all the violent, demonic essence of Russian culture in its last pre-war years. Bolshevik Russia was an explicitly atheist society – the first in history - that killed and tortured believers – tens of millions of them, - and destroyed churches, books and cultural monuments of all kinds in a "cultural revolution" that exceeded in its ferocity even its imitations in Nazi Germany and Maoist China. Writers, philosophers and artists that showed the slightest resistance to, or criticism of, the prevailing barbarism were either imprisoned or exiled – to the great benefit of the West that received them, but to the great impoverishment of people that remained in the "Homeland". New generations were educated to despise everything Christian and to adhere to a new "revolutionary morality" which was probably the most vicious and anti-Christian in the history of mankind. All Christians and "cultural workers" that remained in freedom were allowed to do so only at the price of paying lip-service to the new barbarism – and shamefully denouncing the very few true artists – or simply, decent people - in public life. In such a society only heroes who were prepared to give up everything for the truth could survive spiritually – but almost certainly not physically. If you did not join in the violence and lawlessness, you became desensitized and indifferent to it – which is already a kind of moral death.
For for the Bolsheviks, anyone who was not with them was against them. As the philosopher Ivan Alexandrovich Ilyin wrote: "It was necessary to help, serve, be useful, carry out all demands, even the most disgusting, dishonourable, humiliating and treacherous. One had either to go to one’s death as a hero-confessor, or become a evil-doer ready for anything: denounce one’s father and mother, destroy whole nests of innocent people, betray friends, openly demand the death penalty for honourable and courageous patriots (as did, for example, the artist Kachalov on the radio), carry out provocative acts, simulate views that one did not have and which one despised, propagandize atheism, teach the most idiotic theories from the lecture-stand, believe in intentional, shameless lies, and flatter unceasingly, shamelessly flatter small ‘dictators’ and big tyrants…
"In a word, the choice was and has remained to the present day simple and unambiguous: heroism and a martyric death, or enslavement and complicity."
Party members especially were not allowed to have a private life separate from their political life in which culture or religion could flourish. Thus Igor Shafarevich writes: "The German publicist V. Schlamm tells the story of how in 1919, at the age of 15, he was a fellow-traveller of the communists, but did not penetrate into the narrow circle of their functionaries. The reason was explained to him twenty years later by one of them, who by that time had broken with communism. It turns out that Schlamm, when invited to join the party, had said: ‘I am ready to give to the party everything except two evenings a week, when I listen to Mozart.’ That reply turned out to be fatal: a man having interests that he did not want to submit to the party was not suitable for it…"
So much for culture… Admittedly, permission for a minimal private life and the enjoyment of Mozart did creep back in later decades. Nor was culture as such ever banned: on the contrary, the authorities were very concerned to project an image of culturedness as if to compensate for their obvious barbarism.
Moreover, they had a great example in the Great Leader of the Peoples himself. Stalin wrote poetry, went very frequently to the theatre and concerts, and in general took a strong interest in culture. According to Richard Overy, "in the 1930s his library counted 40,000 volumes. He wrote extensively both before 1917 and in the 1920s, works and speeches that ran to thirteen volumes when they were published."
At the same time, this champion of culture was determined to destroy all real culture. "The instrument of his will," writes Martin Gilbert, "was A.A. Zhdanov, his lieutenant on the ideological front, who called a special conference of writers, artists and composers – including Shostakovich, Prokofiev, and Khachaturian – to warn them of the folly of independent thought, in music as much as in writing and art. The Soviet Writers’ Union met with Stalin’s particular anger for what he saw as repeated attempts at independent expression of opinion. The poet Anna Akhmatova was among those expelled from the Union in 1946. Such expulsion meant an end to the right to publish – a writer’s means of livelihood."
In 1948, "on February 10 the Central Committee of the Communist Party issued a decree on music, accusing Shostakovich, Prokofiev and Khachaturian of ‘losing touch with the masses’ and of falling victims to ‘decadent bourgeois influences’. The three made an immediate confession of their ‘errors’ and promised to mend their ways – and amend their music – in future. Newspapers also fell under the displeasure of the most rigorous ideological scrutiny. The satirical magazine Krokodil was censured by the Central Committee for its ‘lack of militancy’ in portraying the evil ways of capitalism. The Academy of Social Sciences, which had been established after the war, was reorganized to provide a more rigorous ideological training for Party and State officials.
"With Stalin’s personal sanction, a ferocious newspaper campaign was launched against two declared enemies of Soviet Communism, ‘bourgeois nationalism’ and the ‘survival of religious prejudice’. Some indication of how deeply religious feeling must have survived after thirty-one years of Communist rule was seen in the calls in Pravda for a more vigorous anti-religious propaganda…"
"Several Soviet writers," writes Gilbert, "were singled out during 1957 for failing to fill their works with an understanding of ‘Socialist realism’. Negative features of Soviet life could be criticized, but only from the point of view of partiynost – Party-mindedness. This involved making clear that all the defects described by the author were being ‘successfully overcome’ by the Party. Particular criticism was leveled at V. Dudintsev, whose novel Not by Bread Alone [a direct quotation from the Gospel] gave what the Party managers called the ‘false impression’ that the individual Soviet citizen was virtually powerless against the obstruction of Soviet bureaucracy. Dudintsev’s error was considered especially grave as his novel had been translated into English…"
Nevertheless, after Khruschev’s secret speech against Stalinism in 1956, some green shoots began to emerge "from under the rubble" (Solzhenitsyn’s phrase) in the Soviet wasteland. Dudintsev’s novel was an example of that; another was Pasternak’s Doctor Zhivago, and soon after that – Solzhenitsyn’s A Day in the Life of Ivan Denisovich. However, these could hardly be called "Soviet" culture; the prevailing, truly Soviet culture remained overwhelmingly unchristian and anti-Christian; and the "Socialist Realism" of the great mass of books, films and art works was truly awful.
The only real culture most people were allowed to enjoy were massive print-runs of "safe" nineteenth-century authors such as Pushkin and Tolstoy.
But truly Christian writers such as Dostoyevsky remained banned until late into the Soviet period… And if, in the 1960s, there were good Soviet film adaptations of Russian or foreign classics such as Kozintsev’s Hamlet, Bondarchuk’s War and Peace (the only Soviet film ever to win an Oscar) and Tarkovsky’s Andrei Rublev (a daring and rare working of a specifically Christian theme), these were made in spite of and in reaction to the prevailing Soviet anti-culture rather than being typical examples of it.
For you cannot deprive an educated people of real culture forever. And so the authorities began cautiously to allow a very limited access to the cultural treasures of the West. Thus in 1957 the great Canadian pianist Glenn Gould came to the Soviet Union and entranced concert-goers with his extraordinary performances of Bach – a composer who, though not banned, had still been frowned on somewhat because of his association with Christian choral music.
A subtle change in Soviet cultural policy began to take place. Communist ideological purity became less important: the need to feel culturally superior to the Great Satan of the West became more important. But that meant a minimal contact with the West so that the best of Soviet culture could be displayed and comparisons made. So Shostakovich was no longer required to humbly ask forgiveness for supposedly bad work, and outstanding performers such as Oistrakh, Gilels, Richter and Rostropovich were allowed to travel to the West – under strict supervision, of course.
However, this policy had its dangers for the Soviet masters of culture. What if the comparison that could now be made between Soviet and western culture did not turn out in favour of Soviet culture? What if the stars of Soviet culture, in western eyes, turned out to be very un-Soviet or even anti-Soviet, such as Solzhenitsyn? What, even worse, if the stars of Soviet culture chose to defect to the West in order to develop their talent in the more favourable conditions pertaining there – as did the ballet dancer Rudolf Nureyev? What if some of the stars of western culture actually began to contaminate Soviet culture with their novelty – as did the music of the Beatles?
Since flexibility had never been a virtue of Soviet bureaucrats, the only possible response to such threats was repression. But this had its own dangers. Thus when Pasternak was not allowed to receive his Nobel Prize for literature, it only increased the fame of his novel. Again, when Rostropovich wrote to the Culture Minister Furtseva on behalf of his persecuted friend Solzhenitsyn, and was banished to his own kind of Gulag – obscurity in the provinces and work with second-rate orchestras, it became obvious that for such a highly sensitive artist this could result only in one of three possible outcomes: complete waste of his talent, suicide or exile. Fortunately for Rostropovich and the western musical world, he was exiled to the West…
As Soviet power weakened in the 70s and 80s, and censorship was relaxed, Soviet culture became more "normal", less boorish, more genuinely artistic, while Christian themes appeared more often – without irony now. But these could hardly be called achievements of specifically Soviet culture, but rather the gradual and partial return of Russianness to Soviet life. The same, a fortiori, must be said about the revival, from approximately the commemoration of the Baptism of Rus’ in 1988, of the specifically ecclesiastical arts – church architecture, iconography and music.
A constant feature of the Soviet cultural scene were performances of "Swan Lake". Stalin had seen the ballet thirty times – the last time on the eve of his death. It was the work that the Bolshoj Ballet chose to bring to London as the proudest achievement of Soviet culture. But, of course, it was an achievement of nineteenth-century Russian bourgeois culture… As the Soviet Union was falling towards the end of 1991, the Soviet media played "Swan Lake" continuously – as if to plead before the world that the black hole that had been the Soviet Union had not been so black after all… Unfortunately, many believed them, including the present "patriarch of Moscow and all Russia"…
*
So let us now return to the thesis of the patriarch: that even the communist authorities of the Soviet Union did not dare ‘to blow up the moral basis of the life of society’, which, in his words, as a whole remained Christian…
Oliver Figes writes: "The Bolsheviks envisaged the building of their Communist utopia as a constant battle against custom and habit. With the end of the Civil War they prepared for a new and longer struggle on the ‘internal front’, a revolutionary war for the liberation of the communistic personality through the eradication of individualistic (‘bourgeois’) behaviour and deviant habits (prostitution, alcoholism, hooliganism and religion) inherited from the old society. There was little dispute among the Bolsheviks that this battle to transform human nature would take decades. There was only disagreement about when the battle should begin. Marx had taught that the alteration of consciousness was dependent on changes to the material base, and Lenin, when he introduced the NEP, affirmed that until the material conditions of a Communist society had been created – a process that would take an entire historical epoch – there was no point trying to engineer a Communist system of morality in private life. But most Bolsheviks did not accept that the NEP required a retreat from the private sphere. On the contrary, as they were increasingly inclined to think, active engagement was essential at every moment and in every battlefield of everyday life – in the family, the home and the inner world of the individual, where the persistence of old mentalities was a major threat to the Party’s basic ideological goals. And as they watched the individualistic instincts of the ‘petty-bourgeois’ masses become stronger in the culture of the NEP, they redoubled their efforts. As Anatoly Lunacharsky wrote in 1927: ‘The so-called sphere of private life cannot slip away from us, because it is precisely here that the final goal of the Revolution is to be reached.’
"The family was the first arena in which the Bolsheviks engaged the struggle. In the 1920s, they took it as an article of faith that the ‘bourgeois family’ was socially harmful: it was inward-looking and conservative, a stronghold of religion, superstition, ignorance and prejudice; it fostered egotism and material acquisitiveness, and oppressed women and children. The Bolsheviks expected that the family would disappear as Soviet Russia developed into a fully socialist system, in which the state took responsibility for all the basic household functions, providing nurseries, laundries and canteens in public centres and apartment blocks. Liberated from labour in the home, women would be free to enter the workforce on an equal footing with men. The patriarchal marriage, with its attendant sexual morals, would die out – to be replaced, the radicals believed, by ‘free unions of love’.
"As the Bolsheviks saw it, the family was the biggest obstacle to the socialization of children. ‘By loving a child, the family turns him into an egotistical being, encouraging him to see himself as the centre of the universe,’ wrote the Soviet educational thinker Zlata Lilina. Bolshevik theorists agreed on the need to replace this ‘egotistic love’ with the ‘rational love’ of a broader ‘social family’. The ABC of Communism (1919) envisaged a future society in which parents would no longer use the word ‘my’ to refer to their children, but would care for all the children in their community. Among the Bolsheviks there were different views about how long this change would take. Radicals argued that the Party should take direct action to undermine the family immediately, but most accepted the arguments of Bukharin and NEP theorists that in a peasant country such as Soviet Russia the family would remain for some time the primary unity of production and consumption and that it would weaken gradually as the country made the transition to an urban socialist society.
"Meanwhile the Bolsheviks adopted various strategies – such as the transformation of domestic space – intended to accelerate the disintegration of the family. To tackle the housing shortages in the overcrowded cities the Bolsheviks compelled wealthy families to share their apartments with the urban poor – a policy known as ‘condensation’ (uplotnenie). During the 1920s the most common type of communal apartment (kommunalka) was one in which the original owners occupied the main rooms on the ‘parade side’ while the back rooms were filled by other families. At that time it was still possible for the former owners to select their co-inhabitants, provided they fulfilled the ‘sanitary norm’ (a per capita allowance of living space which fell from 13.5 square metres in 1926 to just 9 square metres in 1931). Many families brought in servants or acquaintances to prevent strangers being moved in to fill up the surplus living space. The policy had a strong ideological appeal, not just as a war on privilege, which is how it was presented in the propaganda of the new regime (‘War against the Palaces!’), but also as part of a crusade to engineer a more collective way of life. By forcing people to share communal apartments, the Bolsheviks believed that they could make them communistic in their basic thinking and behaviour. Private space and property would disappear, the individual (‘bourgeois’) family would be replaced by communistic fraternity and organization, and the life of the individual would become immersed in the community. From the middle of the 1920s, new types of housing were designed with this transformation in mind. The most radical Soviet architects, like the Constructivists in the Union of Contemporary Architects, proposed the complete obliteration of the private sphere by building ‘commune houses’ (doma kommuny) where all the property, including even clothes and underwear, would be shared by the inhabitants, where domestic tasks like cooking and childcare would be assigned to teams on a rotating basis, and where everybody would sleep in one big dormitory, divided by gender, with private rooms for sexual liaisons. Few houses of this sort were ever built, although they loomed large in the utopian imagination and futuristic novels such as Yevgeny Zamiatin’s We (1920). Most of the projects which did materialize, like the Narkomfin (Ministry of Finance) house in Moscow (1930) designed by the Constructivist Moisei Ginzburg, tended to stop short of the full communal form and included both private living spaces and communalized blocks for laundries, baths, dining rooms and kitchens, nurseries and schools. Yet the goal remained to marshal architecture in a way that would induce the individual to move away from private (‘bourgeois’) forms of domesticity to a more collective way of life.
"The Bolsheviks also intervened more directly in domestic life. The new Code on Marriage and the Family (1918) established a legislative framework that clearly aimed to facilitate the breakdown of the traditional family. It removed the influence of the Church from marriage and divorce, making both a process of simple registration with the state. It granted the same legal rights to de facto marriages (couples living together) as it gave to legal marriages. The Code turned divorce from a luxury for the rich to something that was easy and affordable for all. The result was a huge increase in casual marriages and the highest rate of divorce in the world – three times higher than in France or Germany and twenty-six times higher than in England by 1926 – as the collapse of the Christian-patriarchal order and the chaos of the revolutionary years loosened sexual morals along with family and communal ties."
In 1920 the Bolsheviks abortions were made freely available at the mother’s request. For "in Soviet Russia," writes Richard Pipes, "as in the rest of Europe, World War I led to a loosening of sexual mores, which here was justified on moral grounds. The apostle of free love in Soviet Russia was Alexandra Kollontai, the most prominent woman Bolshevik. Whether she practiced what she preached or preached what she practiced, is not for the historian to determine; but the evidence suggests that she had an uncontrollable sex drive coupled with an inability to form enduring relationships. Born the daughter of a wealthy general, terribly spoiled in childhood, she reacted to the love lavished on her with rebellion. In 1906 she joined the Mensheviks, then, in 1915, switched to Lenin, whose antiwar stand she admired. Subsequently, she performed for him valuable services as agent and courier.
"In her writings, Kollontai argued that the modern family had lost its traditional economic function, which meant that women should be set free to choose their partners. In 1919 she published The New Morality and the Working Class, a work based on the writings of the German feminist Grete Meisel-Hess. In it she maintained that women had to be emancipated not only economically but also psychologically. The ideal of ‘grand amour’ was very difficult to realize, especially for men, because it clashed with their worldly ambitions. To be capable of it, individuals had to undergo an apprenticeship in the form of ‘love games’ or ‘erotic friendships’, which taught them to engage in sexual relations free of both emotional attachment and personal domination. Casual sex alone conditioned women to safeguard their individuality in a society dominated by men. Every form of sexual relationship was acceptable: Kollontai advocated what she called ‘successive polygamy’. In the capacity of Commissar of Guardianship (Prizrenia) she promoted communal kitchens as a way of ‘separating the kitchen from marriage’. She, too, wanted the care of children to be assumed by the community. She predicted that in time the family would disappear, and women should learn to treat all children as their own. She popularized her theories in a novel, Free Love: The Love of Worker Bees (Svobodnaia liubov’: liubov’ pchel trudovykh) (1924), one part of which was called, ‘The Love of Three Generations’. Its heroine preached divorcing sex from morality as well as from politics. Generous with her body, she said she loved everybody, from Lenin down, and gave herself to any man who happened to attract her.
"Although often regarded as the authoritarian theoretician of Communist sex morals, Kollontai was very much the exception who scandalized her colleagues. Lenin regarded ‘free love’ as a ‘bourgeois’ idea – by which he meant not so much extramarital affairs (with which he himself had had experience) as casual sex…
"Studies of the sexual mores of Soviet youth conducted in the 1920s revealed considerable discrepancy between what young people said they believed and what they actually practiced: unusually, in this instance behaviour was less promiscuous than theory. Russia’s young people stated they considered love and marriage ‘bourgeois’ relics and thought Communists should enjoy a sexual life unhampered by any inhibitions: the less affection and commitment entered into male-female relations, the more ‘communist’ they were. According to opinion surveys, students looked on marriage as confining and, for women, degrading: the largest number of respondents – 50.8 percent of the women and 67.3 of the women – expressed a preference for long-term relationships based on mutual affection but without the formality of marriage.
"Deeper probing of their attitudes, however, revealed that behind the façade of defiance of tradition, old attitudes survived intact. Relations based on love were the ideal of 82.6 percent of the men and 90.5 percent of the women: ‘This is what they secretly long for and dream about,’ according to the author of the survey. Few approved of the kind of casual sex advocated by Kollontai and widely associated with early Communism: a mere 13.3 percent of the men and 10.6 of the women. Strong emotional and moral factors continued to inhibit casual sex: one Soviet survey revealed that over half of the female student respondents were virgins…"
In this continuing conservatism of Soviet youth in the early period we see the continuing influence of the Orthodox Church, into which most Russians had been baptized. The Church resisted all the Soviet innovations, including civil marriage, abortion and divorce on demand. And soon the State, too, reversed its teaching in some respects, outlawing abortion in 1936 and condemning free love. But this was not the result of some kind of revival of religion and morality. It was necessitated by the simple fact, emphasized by Metropolitan Philaret of Moscow in the nineteenth century, that the State is founded on the family, and the destruction of the family finally leads to the destruction of the State…
In any case, this slight tightening of sexual morality did not last. After the war, and especially after Stalin’s death, abortion numbers rocketed – and have not significantly declined in the present neo-Soviet period. So the patriarch’s blithe assertion that in the Soviet period "the morals of the people remained Christian" is plainly the opposite of the truth. "By their fruits ye shall know them," said the Lord…
*
To conclude, there is no evidence that that the general level of public morality in the Soviet period was anything but very low; an atheist culture produced, as was only to be expected, an atheist and "revolutionary morality". The first two decades of Soviet power were a glorious period of Christian martyrdom fully comparable with the earliest centuries of Christianity – but in the context of a brutal, anti-Christian culture, still more hostile to all true culture than the pagan culture of the times of Nero, Decius and Diocletian. The post-war period continued to manifest heroes of the faith in the camps and in the Catacomb (True Orthodox) Church; but in the general population drunkenness, sexual immorality, abortion, lying, conformism and denunciation of one’s neighbour were commonplace. Everything that was best in the Soviet period was produced in conscious resistance to and defiance of the prevailing faith, culture and morality; in this, and this alone, did the salvation of a tiny minority of the Russian people take place. The specifically Soviet – as opposed to the remnants of pre-revolutionary Russian - culture was penetrated, not by Christian ideas, but by satanic passions that waged war on everything Christian – passions that have now been unleashed again in the neo-Soviet regime of Vladimir Putin and Cyril Gundiaev…
May 25 / June 7, 2016.
* * *
Н.В. ГОГОЛЬ: НА СТУПЕНЯХ К СЕДЬМОМУ НЕБУЕлена Семёнова
Сеющий в плоть пожнёт тление, а сеющий в дух – жизнь вечную.(Евангелие)
Глава 1.
- …От земли к самому синему небу протянута лестница, опущенная ангелами с горней высоты, и всякий человек на протяжении жизни поднимается по ней всё выше и выше. Иной вначале остановится, иной на середине пути – и беда тому, потому что лестница та прямо к Богу ведёт. И, кто одолеет её, кто до самой последней, седьмой ступеньки дойдёт, тот на седьмом небе окажется и Бога узрит, и в чертог Господень впущен будет, как желанный гость…
Негромко и устало звучал бабушкин голос, в который раз повторяющий притчу о чудной лестнице, образ которой
поразил однажды впечатлительного мальчика и навсегда запал в душу. Вот, она, лестница эта, как наяву: белая, сияющая, устремлённая ввысь – толпятся тёмные люди у подножия её, а другие взбираются вверх, светлее ликами с каждым шагом, а кто-то срывается вниз, а кто-то уже
почти достиг высшей точки, той самой, где ждёт верных своих сыновей Господь, ангелы и святые в сияющих ризах… Никоша сидел рядом с бабушкой, прижавшись к ней и широко раскрыв глаза. Татьяна Семёновна умолкла, задумалась о чём-то. Никоша тронул её за рукав. Бабушка ласково
улыбнулась и погладила его по рыжеватой голове. Он попросил её рассказать про деда. Татьяна Семёновна вздохнула и принялась сказывать своим вкрадчивым голосом, нараспев, словно былину, историю, которую Никоша слышал не раз, но готов был слушать вновь и вновь, потому что не
было радости большей, чем сидеть в этом небольшом тёплом домике в стороне от господского дома, вдыхать неповторимый запах, царящий здесь, чувствовать прикосновение ласковых бабушкиных рук, взгляд её мягких, лучистых глаз и слушать её мелодичный, напевный голос. Иногда,
слушая очередную песню или рассказ, Никоша засыпал, и ему снились бескрайние просторы, разудалая жизнь казачьей вольницы, которой вовсе не чужды были его недалёкие предки. Среди них были и Яков Лизогуб, соперник Мазепы, некогда бравший Азов и брошенный по доносу в
Петропавловскую крепость, и Павел Полуботок, дерзко споривший с Императором Петром, и полковник Танский, сосланный Анной Иоанновной в Сибирь, и полковник подольский и могилёвский Евставий (по другим сведениям Андрей) Гоголь-Яновский, получивший за ратные заслуги имение
Ольховец от польского короля Яна-Казимира… Все эти далёкие и не очень предки живо воскресали в богатом воображении мальчика, становясь для него почти осязаемыми, словно бы сам видел он их.
- Отец мой, Лизогуб, нанял для меня доброго учителя, знавшего грамоте и пяти языкам… - рассказывала
Татьяна Семёновна, и лицо её озарялось светом счастливых воспоминаний. - Уж как он был внимателен и расторопен, мой Афанасий Демьянович! Одна беда – чином только лишь полковой писарь. Родители мои были люди нрава сурового и не благословили бы нас, а мы уж друг без друга не
могли. Записки друг другу писали, прятали в скорлупу грецкого ореха и оставляли в дупле дуба… А потом решили обвенчаться. Тайно. Я собрала все свои драгоценности, и ночью мы бежали из дому. Темно, страшно, кругом лес густой… И вдруг – лихие люди на пути встали. Отняли у нас
всё, что было. С чем дальше идти? Куда? Возвратились мы под родительский кров, упали в ноги, испросили прощения. Тут уж и простили нас отец с матерью, и благословение даровали… Ах, какой он был весёлый, мой Афанасий Демьянович! Какие чудные истории рассказывал – заслушаться
можно было… Только уж и не припомню теперь… А хозяин какой… - бабушка вздохнула и задумалась вновь, вспоминая своего покойного мужа.
Молчал и Никоша. Он думал уже о своих родителях, история любви которых также была удивительна. Свою
будущую жену, сын Афанасия Демьяновича увидел во сне, увиденном во время поездки на богомолье. Божия Матерь подвела его к завёрнутому в белые одежды младенцу и, указав на него, произнесла:
- Вот, твоя суженая.
После богомолья Гоголи-Яновские заехали навестить своих соседей Косяровских. Едва взглянув на их годовалую дочку Машу четырнадцатилетний Васюта воскликнул:
- Это она!
Двенадцать лет Василий Афанасьевич ездил к Косяровским, возился с их дочерью и терпеливо ждал, когда та подрастёт. Когда Маше исполнилось тринадцать, он признался ей в своих чувствах, а спустя год они были помолвлены. Свадьбу решено было отложить на год, но жених выдержал
лишь месяц. Ему вновь привиделся сон, похожий на первый, но уже со взрослой Машей, стоящей у алтаря. Верхом, обрызганный грязью, он примчался весенним днём в имение Косяровских.
- Это указание свыше! Того хочет Бог! – говорил он, сверкая глазами, бледный и возбуждённый.
Свадьба состоялась, и, не дожидаясь окончания скромного застолья, Василий Афанасьевич увёз молодую жену…
- …Над явором ворон кряче,
Над козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твiй сын оженився,
Та взяв жiнку паняночку,
В чистом полi земляночку,
I без дверец, без оконець.
Та вже пiснi вишов конець.
Лилась и лилась протяжная, щемящая душу песня, унося каждого внимающего ей в иные края и времена, и перед взором Никоши так и вставали, оживая, сцены, проносились в воображении, и слёзы катились по щекам от жалости к героям этих песенных повествований. Долгая песня навивала сон. Уже вечерело, и пора было возвращаться домой, а так не хотелось. Вот бы вечно сидеть так, обратившись в слух, в мечту… Ах, какие чудные времена и люди были когда-то, какие необъятные просторы лежат где-то! Вот бы пуститься по ним однажды и объездить всю-всю землю, в каждый уголок заглянуть, всё увидеть и узнать самому…
Вечерняя прохлада уже пробралась в сад, и Никоша зябко поёжился, но всё-таки остановился и, замерев, стал вслушиваться в тишину, нарушаемую шелестом распускающейся листвы, издающей кружащий голову аромат. Весна! Вот, она, любимая, пришла, наконец, после долгих морозов, внося свежесть во всё: в природу и в душу! Каждый звук теперь иной, каждая пташка по-другому поёт, и всё звенит причудливо и маняще. Весна, что за восхитительное время! Весной оживает всё, весной Христос воскрес, весной родился он сам…
Был только март-месяц. Ещё зима стойко обороняла свои рубежи, но то там, то здесь легкокрылая весна пробивала звонкой капелью бреши в этой обороне и теснила холода, возвещая голосами первых птиц, что пришло её царствование, что настало время пробудиться всем и воскреснуть ото сна к новой светлой жизни.
На крутом берегу реки Псел, в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, в белостенной хате доктора Трохимовского Никоша появился на свет. Он родился болезненным, и родители боялись за него, потеряв во младенчестве уже двоих сыновей. Матушка, Мария Ивановна, долго молилась пред иконой Святого Николая-Чудотворца в храме соседней Диканьки, дав обет наречь новорожденного Николаем, если только Бог сохранит ему жизнь…
Никоша задумчиво брёл по аллеям, разбитым отцом в парке, которому он старался придать более или менее культурный вид. Далеко витали мысли впечатлительного мальчика. Всё в жизни имеет две стороны, и его недюжинное воображение, рождавшее перед глазами чудные картины прошлого, сказывалось ещё и болезненной мнительностью, унаследованной от отца. Некогда Василий Афанасьевич писал своей невесте: «Я должен прикрывать видом весёлости сильную печаль, происходящую от страшных воображений… Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает моё сердце…» Эта необъяснимая логически тоска и печаль, рождённая страшным воображением, являлась в Никоше с самых ранних лет, вдруг сдавливала сердце, наводила ужас.
Проходя мимо пруда, Никоша с болью вспомнил один из таких приступов. Однажды родители уехали, а все домашние разошлись по своим комнатам. Была ночь, и мёртвая тишина царила вокруг. Никоша сидел один в гостиной, и вдруг душу его переполнил необъяснимый страх. Заскрежетали, а затем громко забили старинные часы, разрывая тишину. Какое-то паническое чувство овладело мальчиком. В этот момент из темноты блеснули недобрые зелёные глаза, раздалось негромкое мяуканье… Кошка приближалась, стуча коготками о половицы… Этого перепуганный Никоша выдержать уже не мог. Он схватил кошку и выбежал в сад. Луна вышла из-за туч, когда запыхавшийся мальчик оказался возле пруда. Бледное пятно глядело из тёмных глубин воды, и в него-то и швырнул Никоша кошку. Когда мяуканье затихло, и вода сомкнулась над утопленным животным, сделалось ещё страшнее. Никоше показалось, будто бы он только что убил человека. Мгновенно вспомнилась сцена Страшного Суда, не раз виденная в местной церкви, в которую родители регулярно водили сына. Сами службы не оставляли заметного следа в его душе. Бесстрастными глазами взирал он на всё, ничего не замечая, отбывая повинность по воле родителей, крестясь потому, что крестились все… Но сознание того, что есть Высший Суд, Судия, всё видящий и знающий, неотвратимый, глубоко проникло в сознание его. И теперь этот Судия знает о свершённом злодеянии, знает и неизбежно накажет. Никоша вдруг явственно ощутил, что преступил, что совершил преступление, не имеющее оправдание, и от этого ему сделалось жутко и горько. Отчаяние овладело мальчиком, он стал рыдать, и вернувшиеся родители нашли его совершенно истерзанным. Отец больно выпорол его, но это оказалось благом: боль физическая пригасила боль душевную, самую нестерпимую и неизбывную, дав ощущение искупления… С той поры Никоша понял, что нет чувства тяжелее, чем сознание своей вины, своего греха, нет муки большей, чем мука совести… Никакая физическая боль не сравнится со страданием души.
Подойдя к дому, Никоша услышал голоса и догадался, что в гости к отцу пожаловал родственник и благодетель Дмитрий Прокофьевич Трощинский, экс-министр и член Государственного совета, екатерининский вельможа, перед которым вытягивалась вся губерния. Никоша с родителями нередко бывал в богатом имении Трощинского. Там был устроен театр, где ставились самые известные пьесы того времени: «Подщипа» Крылова, «Недоросль» Фонвизина, «Ябеда» Капниста, также соседа Гоголей. Василий Васильевич Капнист был дружен с Державиным. Знаменитый поэт однажды приезжал к нему, и тогда единственный раз в жизни его видел маленький Никоша, гостивший с родителями у Капниста. В имении Трощинского царила атмосфера 18-го века с балами и маскарадами. Никоша не любил этой пышности и, в особенности, угодничества, с которым все гости заискивали перед хозяином, он часто скрывался в огромной библиотеке Дмитрия Прокофьевича, читал его книги, так как в доме самих Гоголей была единственная книга – роман Хераскова, некогда подаренный Василием Афанасьевичем своей невесте.
Тем не менее Трощинского Никоша не любил. Не любил за высокомерие и за то, что его отец был должен ему и потому, как и другие, заискивал перед благодетелем. Это казалось стыдным, унизительным. В счёт долга Василий Афанасьевич был почётным приказчиком Трощинского, фактически служил ему. Услуги, оказываемые добрым благодетелем, часто оказываются удавкой, стягивающейся на шее того, кому они оказываются. Удавку эту очень хорошо ощущал Василий Афанасьевич, стыдившийся своего положения должника, страдающий от него, но не имеющий возможности изменить его, так как дела в имении шли неважно: продуктов было довольно, но денег не хватало всегда, приходилось экономить на самом необходимом. «Чего бы, казалось, недоставало этому краю! Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. (…) Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, и они рыскают с горя за зайцами. (…) Деньги здесь совершенная редкость…» Незавидное положение отца видел Никоша, и сердце его было уязвлено обидой за него.
Мать, молодая, красивая женщина, хлопотала по хозяйству. Дмитрий Прокофьевич жаловал её, поскольку Мария Ивановна, помимо того, что была редкой красавицей, ещё являлась искусной плясуньей и ещё в детстве лихо отплясывала «козачка» в присутствии гостей, и сам благодетель приезжал полюбоваться на неё. Отец вместе с важным гостем сидели за столом и играли в шахматы. Старик Трощинский, по обыкновению, поглядывал свысока, улыбался милостиво, иногда что-то говорил, а Василий Афанасьевич всячески изображал весёлость, шутил, стараясь быть приятным гостю. Никоша подошёл к отцу и, посмотрев на него ясными глазами, сказал: - Папа, не играйте с ним. Пусть идёт.
Василий Афанасьевич побледнел и не сразу нашёлся, что сказать. Трощинский с любопытством посмотрел на мальчика:
- Экий ты не по годам острый! Уже в отцовском доме хозяйствуешь? А ну как я тебя розгой поучу?
- Плевать на вас и на вашу розгу! – ответил Никоша.
Отец сплеснул руками, схватил сына за плечо:
- Ах, ты шкодник! Извинись немедля! Вот, я тебя сейчас проучу!
Василий Афанасьевич был настроен решительно, и Никоша уже приготовился к порке, когда вдруг Трощинский остановил своего приказчика-родственника:
- Полно вам, Василий Афанасьевич! Оставьте его, оставьте.
- Но Дмитрий Прокофьевич…
- Я не желаю, чтобы вы наказывали вашего сына.
Василий Афанасьевич помялся и выпустили Никошу:
- Ступай в свою комнату и не вздумай выходить, покуда не позволю. И скажи спасибо доброте Дмитрия Прокофьевича, а то бы ты у меня никак не избежал наказания!
Благодарить благодетеля Никоша не стал, гордо повернулся и ушёл к себе.
- Он будет характерен, - заметил старик, глядя ему вслед.
- Прошу вас простить моего сорванца… - начал было Василий Афанасьевич, но Трощинский прервал его, милостиво махнув рукой:
- Садитесь, продолжим партию. Кажется, ход ваш. Играйте!
Василий Афанасьевич послушно сел и, недолго думая, выдвинул первую попавшуюся фигуру – одну из пешек. Оная тотчас была сражена ладьёй Трощинского, знавшего толк в этой игре и не позволявшего эмоциям ослабить своё внимание к ней.
- Вам шах, - довольно улыбнулся благодетель, и Василий Афанасьевич услужливо изобразил бледное подобие улыбки в ответ.
Оставшись один у себя в комнате, Никоша достал перо и бумагу и начал писать. Бумаге он мог доверить чувства, которые не доверил бы ни одному живому человеку. Но даже бумаге поверялись они в зашифрованном виде – в стихах. Никоша писал их, подражая тем, что слышал и читал. Подражал в том числе и собственному отцу, который также не чужд был поэзии и даже написал несколько пьес. Подражать Никоша умел виртуозно. Он копировал повадки людей, которых видел, и очень похоже изображал их, копировал манеру письма других авторов в своих виршах, копировал окружающий мир – в рисунках. Стихи его мать называла каракулями, но втайне гордилась способностями сына и даже показала «каракули» старому поэту Капнисту. Василий Васильевич, разумеется, не мог оценить этих детских проб пера, но зато заметил и оценил другое: наблюдательность мальчика, умение его схватывать особенности человека. «Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образ его мыслей и речей» . Потрепав Никошу по голове, Капнист предрёк:
- Из него будет толк, ему нужен хороший учитель…
Глава 2.
- Дражайшие Папинька и Маминька! О, если бы вы могли знать, как горько и одиноко мне здесь без вас…
- Это ещё что такое опять? – раздался позади суровый голос с сильным акцентом. – Разве так пишут хороший дети благородний родителям, подвергая их печали? Не вынуждайте меня прибегать к наказание. И не думайте жаловаться, употребляя во зло родительский любов… Ни один молодой человек не воспитывается без маленькие благородние наказание.
Порвите это и пишите снова.
- А что же писать?
- Я продиктую, - милостиво ответил немец, неспешно расхаживая по комнате.
Г-н Зельднер, за хорошую плату взявшийся быть наставником юного воспитанника Нежинской гимназии Николая Гоголя, был рассержен. Отец мальчика, встревоженный первыми отчаянными письмами любимого сына, хотел забрать его домой, но после передумал, однако послал нарочного с запросом к наставнику. Василий Афанасьевич даже занемог от беспокойства, чему была причина: совсем недавно он потерял младшего сына, Ивана, не выдержавшего по слабости здоровья обучения в Полтавском уездном училище, куда был определен вместе с братом.
Жизнь вдали от дома, в разлуке с близкими, жизнь у чужих людей всегда тяжела. Особенно тяжела она для ранимой детской души. Окончив писать под диктовку, Никоша затосковал ещё больше, а учитель ушёл, чтобы составить своё письмо с обычными требованиями сушёных вишен, сала и прочих даров Васильевки. Тоска по родному дому, по родителям и бабушке камнем лежала на сердце. Вспоминались тихие вечера в бабушкином доме, наполненные песнями и увлекательными рассказами. Слёзы струились по щекам, и больше всего хотелось написать папиньке, чтобы он забрал его отсюда домой. Но Зельднер этого не допустит. И стыдно было бы бросить учёбу, струсить, сбежать. Жаль огорчать отца с матерью, но жаль и себя… Ведь немногим сильнее он брата Ивана… Впрочем, Ивану теперь хорошо… Нет, надо стараться, надо всё это выдержать – ради маминьки и папиньки…
Жизнь у Зельднера была не первым опытом жизни в людях для Никоши. Прежде Нежина была Полтава. Училище с немытыми окнами, катехизисом и постоянным страхом наказания, коим была пропитана вся тамошняя атмосфера. Но рядом был Иван, и оттого было легче. А после смерти Ивана Никоша жил у некого учителя, обещавшего подготовить его к поступлению в гимназию, с которым Василий Афанасьевич расплачивался, в основном, дарами своего имения. Но и это было не так тяжело. Учитель Сорочинский «не докучал моралью строгой» своему подопечному, не стеснял его своей жадностью и педантичностью, как Зельднер, да и Полтава была не так далеко от родной Васильевки. В Полтаве жило много знакомых отца, и сам Василий Афанасьевич часто приезжал туда. Приезжал и Трощинский, не любимый прежде, но на чужой стороне ставший едва ли ни родным человеком: не зря говорят, что на чужой сторонушке рад своей воронушке. Да и, вообще, жизнь в Полтаве, шумной, контрастной, была куда интереснее нежинской. Казалось, будто бы этот прославленный знаменитым сражением, воспетый Пушкиным город был собирательным образом всех российских городов с их путаницей и сплетнями, шумной торговлей и взяточничеством, пышными балами и убогими задворками, блеском и нищетой, славой минувших дней и праздностью нынешних. В Полтаве не удавалось соскучится, ибо всякий день она давала пищу для ума, для зоркого наблюдательного взгляда.
В Нежине всё иначе. Нежин – чужой город, и Никоша чужой в нём. Чужой городу, чужой своему наставнику, чужой одноклассникам. Эта чуждость всему и всем тяготила, изводила, наводила уныние.
Впервые в гимназию Никоша вошёл в сопровождении дядьки, которого испуганно хватал за рукав, затравленно озираясь по сторонам. Он был одет во множество фуфаек и тулуп, голова его была повязана материнским платком. Нелепость этого одеяния, которое очень долго, словно кокон, разматывал дядька, едва они вошли в класс, не могла не вызвать смех гимназистов. Послышались шуточки и колкости, и Никоша изо всех сил старался сдержать наворачивающиеся на глаза слёзы. Он поглядывал на дядьку, и в душе его была лишь одна мольба: заберите меня отсюда! Но дядька ушёл, а Никоша остался в гимназии, среди подтрунивающих над ним одноклассников, многие из которых, в отличие от него, получили хорошее домашнее образование, а потому учёба давалась им куда легче.
Тяжело быть чужим, тяжело постоянно чувствовать на себе насмешливые взоры, постоянно ожидать какой-нибудь обиды. «…как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утончённой, образованный светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признаёт благородным и честным…» И зачем, зачем люди бывают так жестоки? Зачем обижают других? За что? Может быть, со скуки, а, может, чтобы ощутить свою обманчивую силу. Не со зла чинят обиды, а для развлечения, или потому что прежде кто-то уязвил их. Но разве легче от того тому, на кого обращены обиды? Смех вызывала внешность Никоши, его неумение держаться, его необразованность… Среди отметок его мелькали сплошь тройки. Он делал пропасть грамматических ошибок в сочинениях и не знал иностранных языков, тогда как многие воспитанники свободно изъяснялись на нескольких. О, какая мука – сознание себя хуже и ниже других, всему и всем чужим и лишним… Что за жестокая насмешка природы?! А ведь есть такие счастливцы и баловни, как Нестор Кукольник! Красавец, и как легко ему всё даётся! Как звенят струны гитары в его руках, как ловко отправляет он в лузу бильярдные шары! А какая бездна знаний! Сами профессора подчас обращаются к нему за помощью! Ах, если б хоть самую малость этих талантов! Хоть что-нибудь – и тогда бы иначе смотрели на него!
Есть три пути у человека, над которым тешатся, которого для потехи травят. Отчаяться – и тогда вся судьба под откос. Дать отпор – но для того нужна большая сила и умение. Или же просто не обращать внимания. Уйти в себя, во внутреннюю эмиграцию, делать вид, что обидчиков не существует, не замечать их уколов, и тогда однажды им самим сделается скучно, и они угомонятся. Никоша ушёл в себя. Он водил знакомство с крестьянами, населявшими предместье Нежина – Магерки, уходя туда во всякий погожий праздничный день, много рисовал пейзажи, поскольку люди занимали его в ту пору меньше, чем картины природы, бродил по рынку, покупая грушевый квас и раздавая медяки нищим, подолгу разговаривал с гимназическим садовником Ермилом, а главными спутниками и друзьями его сделались книги, к которым относился он с величайшим трепетом. Из дома по его просьбе присылали ему литературные журналы и новинки. Он собирал все книги, какие мог найти, не исключая «Математической энциклопедии», в которой мало, что мог понять, не любя и не зная математики.
Шло время. Воспитанники Нежинской гимназии взрослели. Вот, уже дамы стали заглядываться на красавца Кукольника, вот уже первые романы с девицами из предместий завели многие гимназисты, и тайком в классах юные повесы делились впечатлениями от любовных утех. Неужели это и есть любовь? Та самая любовь, о которой сложено столько восхитительных поэм, баллад, песен, стихов? Нет, не может быть… Любовь – нечто совсем иное. Любовь – нечто высокое, недосягаемое, прекрасное. И как, однако странно, что те же самые юноши, что слагаю в подражание великим поэтам чудные оды и элегии о любви, в то же самое время могут, заперевшись в классе, рассказывать друзьям скабрезные вещицы, которыми любовь может быть только поругаема? Что общего у этих откровенностей с поэзией, навеянной святым и чистым чувством?
Со временем насмешки в адрес Никоши стали тише. Хотя нет-нет, а выкрикивал кто-нибудь:
- Пигалица! Мёртвая мысль!
Не обращать внимания. Сделать вид, что не расслышал. И всякое браное слово, всякий укол разобьётся, как о скалу, об этот защитный панцирь, в который пришлось облачиться. Никто не должен заметить, что новая насмешка достигла цели, что причинила боль, никто не должен заметить слёз – им можно дать волю лишь наедине… Скучно нападать на того, кто никак не отвечает, а лишь посмотрит только как-то странно, пристально, неприятно. Скучно метать камни в непробиваемую стену молчания. Гимназисты оставили своего странного одноклассника в покое и лишь изредка, завидев его, шептали вслед:
- Таинственный карла!
Что ж, пусть хотя бы так. Таинственность – это уже лучше, это уже не так плохо…
Однако же, великая сила – смех! А ведь можно же обратить её и против самих насмешников…
Звенела, переливалась ручьями новая весна, бурлила Нежинская гимназия. Вот, поднялся Нестор Кукольник читать свои стихи, уже принял заученную позу, завёл глаза и приготовился взять драматическую ноту…
- Возвышенный опять запел! – насмешливый голос из угла.
Так окрестил взрослеющий Гоголь Кукольника, а вскоре и другие одноклассники получили от него свои прозвища. Что-то вдруг изменилось в отношении «таинственного карлы». Уже опасались его острого глаза и языка, уже боялись при нём сказать глупость или взять чрезмерно высокую ноту. А ну как высмеет? А, хуже того, передразнит и изобразит? Вот, когда пригодился впервые этот дар, замеченный стариком Капнистом! Теперь уже недавний изгой сделался одной из ключевых фигур гимназии, его приглашают всюду, он заводила и всегда желанный гость. От него ждут остроумных шуток и пародий. Этой перемена не принесла Гоголю близких друзей. Он так ни с кем и не сошёлся на короткой ноге, старательно оберегая ото всех свой внутренний мир, свою душу. Он завоевал уважение и интерес к себе, но оставался одинок и скрытен. Надетая однажды маска комика защищала его, стыдящегося своих чувств, от болезненных уколов, охраняла, он виртуозно исполнял свою роль, не позволяя никому проникнуть в то, что скрывала эта маска. Одиночество изгоя сменилось одиночеством любимца публики, которое, впрочем, было всё-таки лучше и веселее. «Я должен прикрывать видом весёлости сильную печаль…» - писал когда-то его отец, но, вряд ли он достиг в этом такого мастерства, как сам Гоголь…
Началом же этой существенной перемены в гимназической жизни Гоголя послужил театр, организованный самими воспитанниками. Тут пригодился и талант Гоголя-художника, и актёрский талант. Как художник он рисовал все декорации, как актёр – играл наиболее характерные роли, среди которых старики и старухи, Креон в «Эдипе» и г-жа Простакова в «Недоросле». Последняя считается коронной ролью юного Гоголя. Зрители покатывались со смеху, а товарищи единодушно признавали большой талант недавнего изгоя. Театр был большой любовью Гоголя ещё со времён поездок в имение Трощинского, и теперь он всецело отдавался этому искусству, искал пьесы, оформлял декорации, играл…
Если на сцену он выходил только в образе комика, то в литературе совсем иные мотивы владели им. Мечталась трагедия, нечто на манер произведений немецких поэтов, возвышенное, прекрасное, взывающее к лучшему, что есть в человеческой душе. Именно к высокой литературе стремился Гоголь. «Ни сам я, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придётся быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками…» Кроме театра, он решился ещё издавать журнал и этот огромный труд взялся нести в одиночку. Нужно было звучное название, оригинальная обложка и, главное, материал. Ночи напролёт юный журналист работал над оформлением обёртки – лица журнала, стараясь придать ей вид печатного издания. Материала не хватало, хотя Гоголь спросил статей у всех своих пишущих товарищей, а потому пришлось писать самому во все рубрики журнала, чтобы наполнить его. Всё это делалось украдкой ото всех, и лишь первого числа месяца товарищи могли увидеть плод работы неутомимого редактора – журнал «Звезда». Иногда Гоголь читал свои и чужие статьи вслух, и все внимали ему…
Вскоре Гоголя избрали хранителем книг. На общую складчину он выписывал все выходившие в свет журналы и книги и выдавал их товарищам для чтения по очереди, причём каждому читателю оборачивал бумагой большой и указательный палец, и лишь после этого вверял книгу…
Весной 1825-го года Гоголя постигло тяжёлое горе. Скоропостижно скончался отец. Узнав о страшной утрате, сын написал матери письмо. Он не мог сдержать слёз, и строки местами расплывались. Такое письмо никак нельзя было посылать и без того убитой горем Марии Ивановне. Гоголь взял себя в руки и написал матери уже совсем иное письмо: «Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твёрдостью истинного христианина. Правда я сперва был поражён ужасно сим известием, однако ж не дал никому заметить, что я опечален…» Как часто бывает, смерть отца приводит к более скорому возмужанию сына. С уходом Василия Афанасьевича Гоголь формально сделался главой семьи, теперь на нём лежала ответственность за мать и сестёр. Сознание этого пробудило в Гоголе прежде дремавшие силы и волю. Он начал думать о будущем, о своей судьбе, пути. Под влиянием этих мыслей он написал матери такие слова: «…я совершу свой путь в сём мире и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней мере буду стараться сколько возможно быть таковым».
Годы обучения подходили к концу. Уже прогремели события на Сенатской площади, ударившие и по Нежинскому лицею. Обвинения в вольнодумстве падают на некоторых преподавателей и воспитанников, включая Гоголя. Лицей становился тюрьмой, и его стены вновь начали давить, а обитатели их раздражать. «Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мёртвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться… Из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! Может быть, слеза соучастия, отдавшаяся на твоих глазах, послышится и мне…»
Пресмыкаться унизительно, мерзко. Но волю праведному гневу никак нельзя давать. Когда до окончания учёбы остаётся лишь год, нужно, скрепя сердце, терпеть и молчать, наблюдая творящуюся вокруг подлость, потому что иначе не получить аттестата, а, значит, дорога в будущее будет закрыта. А ведь сколько добра можно принести в этом будущем, если положить всю жизнь на творение блага, на служение Отечеству! Как жутко и невыносимо было бы остаться не у дел, сделаться существователем, от которого никому нет пользы! Служить – вот, удел всякого честного человека, переполненного желанием добра. И нужно торопиться, пока есть ещё силы, пока жизнь, не сулящая быть долгой, не прервалась. Нужно успеть! «Ещё с самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимой ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моём при мысли, что, может быть, мне доведётся погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом – быть в мире и не означить своего существования – это было бы для меня ужасно. Я перебрал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее на свете несчастье, более всего разрывало мне сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех законов; теперь занимаюсь отечественным.
Исполнятся ли высокие мои начертания? Или неизвестность зароет их в мрачной туче своей? В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, чтобы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком...»
До самого конца обучения Гоголь так и не позволил себе откровенности с кем-либо из товарищей, оставаясь для них «вещью в себе», чудаком и нераскрытой тайной. «…Я почитаюсь загадкою для всех… Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотёсанный… Вы меня называете мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем…»
В закрытом от посторонних глаз мире, между тем, кипит вдохновенная работа. Чувства, скрытые и накопленные, как собранное экономным хозяином богатство, теперь изливаются на бумагу в виде поэмы, навеянной немецкими классиками – «Ганц Кюхельгартен». Нет чувства более упоительного, чем вдохновенная работа, когда чувствуешь, что замысел удаётся, а оттого перо легко скользит по бумаге, а душа наполняется радостью и ликованием. «Сочинений моих вы теперь не узнаете. Новый переворот настигнул их…»
Эта поэма была ещё одной тайной Гоголя. Покидая по окончании лицея родные пенаты и отправляясь в Петербург, отжить в котором целый век начертал он себе целью уже издавна, он грезил не только о службе на поприще юстиции, но уже – о поприще литературном. Имена Пушкина, Жуковского и других влекли его. Вот, подлинные гении! Титаны! Если бы только хоть немного приблизиться к ним, хоть у подножия их пьедестала занять скромное место, а, может быть, и достичь чего-то большего, сказать своё слово, новое слово в русской литературе! Вот, когда подлинно узнают его, заговорят о нём. И родные края будут гордиться им, и матушка будет счастлива успеху своего сына. Ей он пообещал, покидая Васильевку, что она непременно услышит о нём нечто очень хорошее. И не с юстицией связана была эта надежда, а с поэмой, заботливо уложенной на дно чемодана вместе с толстой тетрадью – «Книгой всякой всячины, или Подручной энциклопедии, составленной Н.Г.», в которой были собраны сведения о самых разнообразных предметах, расположенных в алфавитном порядке.
Но об этом – молчание. Пускай покуда все думают, будто в столицу он едет для службы государственной. Иначе ведь рассмеются в лицо: «Охота вам писать стихи! Что вы, хотите тягаться с Пушкиным?..» Нет, кто неуклонно идёт к своей цели, то однажды добьётся её. Итак, в Петербург! «…Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами, оттого ли, что вы, может быть, принимали во мне более других участия или по связи близкого родства, этого не скажу; что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою, что вы не почтёте ничтожным мечтателем того, который около трёх лет неуклонно держится одной цели и которого насмешки, намёки более заставят укрепнуть в предположенном начертании…»
Солнце, ещё не вошедшее в полную силу, лишь недавно пробудившееся и теперь лениво разгорающееся на востоке, обещая знойный день, разрезало листву садовых деревьев, ветви которых никли, отягощённые обильными плодами. Он сидел на дерновой скамье, склонившись над белым листком бумаги, испещрённым неровными карандашными строчками. Он писал стихи, время от времени останавливаясь, задумываясь, глядя, прищурившись, на залитое солнцем небо, на тени, отбрасываемые на землю яблоневыми и сливовыми деревьями. Увлечённый своим занятием юный поэт не услышал шагов подошедшего сзади товарища и вздрогнул, когда тот ударил его по плечу, воскликнув:
- Здравствуйте! Что вы делаете?
- Здравствуйте… - смутившись, отозвался поэт, поспешно спрятав в карман бумагу и карандаш. – Я… писал.
- Полноте отговариваться! Я видел издалека, что вы рисовали. Сделайте одолжение, покажите; я ведь тоже рисую.
- Уверяю вас, я не рисовал, а писал.
- Что вы писали?
- Вздор, пустяки, так, от нечего делать, писал – стишки, - остроносое лицо юноши покрылось краской, и он потупил взор.
- Стишки! Прочтите: послушаю.
- Ещё не кончил, только начал…
- Нужды нет, прочтите, что написали.
Читать свои первые вирши кому-либо – почти пытка. Так и чувствуется пристальный взор, обращённый к тебе, так и предвкушается разочарованное выражение на лице слушающего, его деланные, лицемерные «довольно неплохо», или уж откровенные в лоб «лучше тебе, брат, не писать» - и то и другое немилосердным хлыстом ударяет по сердцу. И как же трудно заставить себя читать, уступить настоянию. И зачем настаивают? Неужели, в самом деле, интересно? Или лишь делают вид?
Поэт нехотя вынул из кармана тетрадку, раскрыл и начал читать, пересиливая волнение, севшему рядом товарищу. Когда чтение было окончено, он взглянул на него и обнаружил, что тот вовсе не слушает его, а с аппетитом разглядывает висящие на верхушке дерева золотистые спелые сливы, кажется, вовсе забыв о чтении.
- Экие сливы! – воскликнул товарищ, указывая пальцем на дерево.
Ничего нет бестактнее со стороны слушателя, нежели вовсе проигнорировать прочитанное. Даже брань воспринимается менее болезненно, так как она всё же следствие интереса. Поэт нахмурился и, сдерживая негодование, произнёс:
- Зачем же вы заставляли меня читать? Лучше бы попросили слив, так я вам натрусил бы их полную шапку.
С этим словами он резко поднялся и так сильно тряхнул дерево, что сливы градом посыпались с него. Оба молодых человека бросились подбирать их. Словно ни в чём не бывало, поэт шутливо сказал, надкусывая сочный плод:
- Вы совершенно правы, они несравненно лучше моих стихов… Ух, какие сладкие, сочные!
- Охота вам писать стихи! Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше прозой.
- Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет поделиться ощущениями. Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом!
Поэт резко поднялся, выпрямился, глубоко дыша и, глядя на небо, повторил с чувством:
- Да! Не робей, воробей, дерись с орлом!
Глава 3.
Петербург, столица Российской Империи, город больших контрастов и больших возможностей, сосредоточие интеллектуального потенциала всего государства, город-мечта, в который стремятся со всех краёв честолюбивые юноши, потому что именно здесь Олимп, источник славы и поражений, город-чудо, сотворённый неукротимой волей Петра на болоте, город-диктатор, покоряющий всякого и не терпящий нарушения своих законов. Тут уж одно из двух: или пан, или пропал, или грудь в крестах, или голова в кустах. Либо вознестись в лучах славы, либо быть повергнутым в пыль, и тогда ужас и позор и невозможность смотреть в глаза тем, кому обещал, что много хорошего услышат они… Достанет ли сил? Может быть, лучше было остаться в Васильевке и заниматься хозяйством, оставшимся теперь на хрупких женских плечах? Татьяна Семёновна завещала ему часть наследства, но он отказался в пользу матери и сестёр, чувствуя, что не здесь его место. О, как грустны были бабушкины глаза, когда она вышла провожать его, уже совсем старая и хворая, но с тем же светлым лицом, ласковыми глазами и вкрадчивым голосом, которым когда-то пела песни и рассказывала о чудной лестнице. Вся жизнь – лестница. Нельзя остановиться на первой ступеньке, надо идти дальше. А так и врезался в память образ хрупкой старушки, благословляющей с крыльца отъезжающий экипаж, увозящий в неведомую даль её любимого внука… Как в последний раз…
И отчего всё происходит не так, как хочется? Вот и теперь, едва въехали в Петербург, как простуда уложила его в постель. И вместо блеска Невского – тёмная, тесная комнатушка на Гороховой, грязно одетая хозяйка, неуклюжая толкотня слуги Якима, не знающего, куда идти за продуктами, и убивающий вид из окна – вместо привычных просторов, света – стена соседнего дома… Что за тоска! Хорошо ещё, что добрый друг Данилевский взял на себя все формальные заботы по регистрации в столице. Счастливец! Он теперь, расфранчённый и весёлый, разгуливал по Невскому… «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге…»
Данилевский – самый лучший, ближайший и любимый друг. Может быть, единственный близкий друг. Брат. Друг с самых незабвенных детских дней, когда вместе прогуливались они по дороге в Диканьку, слушая могучий звон колокола. Однажды, когда Николай был болен и лежал в жару, именно Александр оказался у его постели, взглянул своими живыми, участливыми глазами… Детская дружба не всегда выдерживает испытания временем. Вот, и Данилевский, хоть и остаётся другом, а всё-таки неудержимо отдаляется, уходит на свой путь, в свою жизнь. И никак не удержать его. Теперь он уже не окажется рядом, как тогда в детстве, не сядет у постели с видом участия и весёлости одновременно, от которого уже становится легче. Вероятно, так и должно быть. Впрочем, настоящая дружба не умирает никогда. Можно уже не общаться столь тесно, но жить в сердце друг у друга: этого не изменить даже времени, слишком крепки узы, слишком давно связаны они…
Наконец, болезнь отступила. Первая задача провинциала в столице – придать себе столичный вид. Необходимо новое платье, сапоги, перчатки, помады… И ещё надо съехать из этой жуткой дыры. Александру неплохо и здесь, но разве же можно существовать среди этого непрекращающегося гомона и грязи? Итак, новая квартира, новое платье… Денег ни гроша, но не обращаться же за помощью к благодетелю Трощинскому! Довольно уж, что отец был всю жизнь у него в долгу! Написать в Васильевку… Придёт время – и он всё отдаст. И даже больше. Только надо найти поприще. Работу. Дело. Место. Счастливчик Данилевский! Он и здесь преуспел. Выбрал военное поприще, поступил в школу военных прапорщиков. Всё просто и понятно у него. Прямая стезя. И никаких мучительны сомнений и поисков. Ах, если бы вот такую же уверенность, знание собственного места – и тогда сам чёрт не страшен. Но этого нет, а, значит, нужно испробовать всё.
Но вначале – первое и главное. Поборов трепет, Гоголь, взяв с собою рукопись поэмы, отправился прямиком к своему кумиру и учителю Пушкину. Ничего так не желала душа его в ту пору, как лицезреть великого поэта. Он единственный – мерило всему. Единственный, чей любой вердикт должен быть воспринят покорно. Если он одобрит первую пробу пера, то долой сомнения, то все прочие толки ничтожны. Если же нет, то умри мечта о литераторстве. По крайней мере, никто больше не увидит новых опусов… Чем ближе подходил Гоголь к дому поэта, тем страшнее ему становилось. Что если не одобрит? Недовольство, скучающий зевок или снисходительность мучительна от всякого, но от всякого это можно перенести. Но не от Пушкина. Тут уж судьба решается. Прежде чем постучать в дверь квартиры, Гоголь свернул в ближайшую кондитерскую, выпил там рюмку ликёра и, немного воспрянув духом, вернулся и отважился постучать. В дверях показался слуга.
- Дома ли хозяин? – осведомился Гоголь.
- Почивают, - прозвучал короткий ответ.
- Верно всю ночь работал, - с благоговением заметил Николай Васильевич.
- Как же, - усмехнулся слуга, - работал! В картишки играл!
Вот так-так… Значит, и великие не чужды земным грешкам. Картишки! Можно ли было вообразить себе Пушкина за этим занятием? Такому гению, как он, пристало лишь вести беседы с музами, творить… Чудно устроен человек! Самое великое переплетается в нём с самым пустым и ничтожным… Значит, такова жизнь…
Может, и к лучшему. Слишком опрометчиво было идти сразу к Пушкину. Разумнее вначале попробовать себя. Но не открывая имени. Имя можно открыть лишь в случае победы, а поражения знать не должен никто… В конце концов, уже опубликовано без подписи стихотворение «Италия», отрывок из «Ганца» в «Сыне Отечества» Фаддея Булгарина. Не настала ли пора дать ход всей рукописи? «Вздёрнуть таинственный покров»?
Денег, присылаемых из дома, хватило на издание тиража поэмы. Под псевдонимом В. Алов. С трепетом Гоголь ждал отзывов, но отзывы эти не оправдали надежд, колеблясь от уничижительных оценок до снисходительного пожимания плечами.
«Московский телеграф». Н. Полевой: «Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».«Северная пчела»: «В сочинителе заметно воображение и способность писать, но (…) свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом».
Удар был велик. О счастье, что не Пушкин стал первым читателем этого позора! Счастье, что не имя подлинного автора стоит под ним! Никто не должен знать его! А лучше бы и вовсе, чтобы не было этой проклятой книги, чтобы никто больше не смог прочитать, усмехнуться над неуклюжестью, бездарностью автора… Нужно поступить с этим злосчастным творением, как со всеми прежними неудачными опусами. Нужно было сделать это ещё раньше!
Вместе с Якимом Гоголь исходил все книжные лавки, скупил все экземпляры своей поэмы, навсегда возненавиденной, истратив последние деньги, и, наняв номер в гостинице, разжёг в печи огонь и предал ему вещественное свидетельство своего позора.
Но боль не утихала. И этой болью не с кем было поделиться, потому что никому невозможно было признаться в своём поражении, сраме. Данилевский давно переселился к друзьям-офицерам, и Гоголь остался в одиночестве. Он бродил по улицам чужого города, вновь чувствуя отчаянную чуждость свою всему вокруг. Мелькали лица и силуэты в рассеянном жёлтым светом фонарей мраке невского проспекта. Странный, обманчивый мир…
Но горше всего было то, что на авантюру с поэмой ушли все деньги, которые мать скопила за целый год и отправила сыну, чтобы он уплатил их в Опекунский совет за заложенное имение. Этой огромной суммы никак невозможно было возместить. И даже вечный благодетель уже не мог помочь – недавно он скончался…
Стыд и бессилие изменить что-либо сводили с ума… Надо же было быть самонадеянным глупцом, чтобы так возомнить о себе, так взлететь! Но нельзя открыть подлинной причины неизбывного горя. Нужно выдумать её, выдумать причину, в которой не так совестно признаться, перенести всю настоящую боль в вымышленную роль и в ней дать волю ей… «…какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать… Маминька! Дражайшая маминька!.. Одним вам я только могу сказать… Вы знаете, что я был одарён твёрдостью, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но видел её… нет, не назову её… она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал её ангелом, но это выражение низко и не кстати для неё… Нет, это не любовь была… я по крайней мере не слыхал подобной любви… В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я. …Нет, это существо… не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений…»
От отчаяния и стыда Гоголь бежал из Петербурга, ставшего молчаливым свидетелем его унижения. Бежал не к родным, видеть которых было бы невыносимо, смотреть в глаза которым невозможно, а за границу. В Любек. В полном одиночестве отплыл пароходом от родных берегов, надеясь этим путешествием утешить свою боль и утишить бурю. Уехать, далеко-далеко уехать, забыться… «…я удивляюсь, почему хвалят Петербург, город сей превозносят более, чем заслуживает, а я, любезная маминька, намерен ехать в Соединённые Штаты и прочее тому подобное…»
В Америку Гоголь не поехал. Европа, едва ступил он на её землю, не понравилась ему, и вскоре душа его затомилась в разлуке с Россией, родные края манили его, и зов этот был сильнее всех прочих мимолётных стремлений. Успокоившись и отрезвившись, Гоголь вернулся в Петербург. Вернулся более умудрённым и целеустремлённым, чем прежде. «Бог унизил мою гордость, но я здоров, и если мои ничтожные знания не могут доставить мне места, я имею руки, следовательно, не могу впасть в отчаяние – оно удел безумца».
Первый блин всегда комом… Но не останавливаться же на нём. После краха необходимо начинать всё заново, собирать и восстанавливать по крупицам, терпеливо и осторожно. «Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше прозой». А ведь совет был недурён. Хорошей прозы на Руси куда меньше великой поэзии. Вот, только бы найти свою стезю, свою ноту, свой почерк… Что же, не зря ведь столько времени составлял он свою «Книгу всякой всячины». К чему браться за материи чужеродные, которых никогда не видал, и перепевать с чужого голоса? Ведь есть же у него великое богатство – малая родина с её сказками, обычаями, особым миром, о котором никто толком не писал ещё. А ну как взяться за это! Ведь уж и начинал было, ещё до позора – набросал кое-что. Но тут уж во всеоружии подходить надо. Всё вызнать, до мельчайшей чёрточки и подробности, чтобы ожил этот мир во всей своей красе.
«…Я думаю, вы не забудете моей просьбы извещать меня постоянно об обычаях малороссиян. (…) Между прочим, я прошу вас, почтеннейшая маминька, узнать теперь о некоторых играх из карточных: у Панхвиля как играть и в чём состоит он? Равным образом, что за игра Пашок, семь листов? Из хороводных: в хрещика, в журавля. Если знаете другие какие, то не премините. У нас есть поверья в некоторых наших хуторах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в которых участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, удружите мне которою-нибудь из них». Но литературные занятия пока не могли принести дохода, нужно было вновь заботится о «месте», и Гоголь, помятуя свои сценические успехи в Нежине, отправился к директору императорских театров С.С. Гагарину.
- Что вам угодно? - спросил князь.
- Я желал бы поступить на сцену и пришёл просить ваше сиятельство о принятии меня в число актёров русской труппы, - запинаясь, ответил Гоголь, несколько оробевший при виде сурового князя.
- Ваша фамилия?
- Гоголь-Яновский.
- Из какого звания?
- Дворянин.
- Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.
- Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня; мне кажется, что я не гожусь для неё; к тому же я чувствую призвание к театру.
- Играли вы когда-нибудь?
- Никогда, ваше сиятельство.
- Не думайте, чтоб актёром мог быть всякий: для этого нужен талант.
- Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.
- Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?
- Я сам этого теперь ещё хорошо не знаю; но полагал бы на драматические роли.
- Ну, г-н Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ваше дело, - усмехнулся Сергей Сергеевич и, обернувшись к секретарю, добавил: - Дайте г-ну Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтоб он испытал его и доложил мне.
А.И. Храповицкий: «…присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии, но даже к комедии…»
Гоголь, читавший по тетрадке, смущённый присутствием известных артистов, сам сознавал, что испытания не прошёл, а потому даже не пришёл за ответом. Оставалось поступить на должность. В чине коллежского регистратора Гоголь был принят на должность писца в департаменте уделов с окладом в 600р. в год. «В департаменте… но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов…» Началась рутинная, подчинённая графику службы жизнь.
«…В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до 3 часов; в половине четвёртого я обедаю; после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить, - тем более, что здесь есть все средства совершенствоваться в ней, и все они, кроме труда и старания, ничего не требуют. По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. …Что это за люди! …Какая скромность при величайшем таланте! Об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, - которых у меня таки не мало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до 25 человек…»
Климат Петербурга, резко контрастирующий с малоросским, сырой воздух, пронизывающие ветра зимой, немилосердная духота летом сказывались на слабом здоровье Гоголя. Нередко недуги принуждали его оставаться дома, а подчас и вовсе укладывали в постель. Тут-то и подступала со всей силой тоска. Хотя из простого писца он сделался помощником столоначальника, но оклад его достиг лишь 750 рублей в год, когда все чиновники в этой должности получали 1000 и более. На квартиру и пропитание требовалось 100 рублей в месяц…
«Да! Терпи, терпи! Есть же, наконец, и терпению конец. Терпи! А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст…»
Где же, где взять деньги? Опять писать любящей маминьке, просить у родных, зная, как стеснены они? Но довольно, довольно! Всего проще опустить руки и поникнуть головой. Отчаяние - смертный грех, и его нужно разгонять. Разгонять весельем. Веселье истинно русское – от отчаяния. Иной в кабак идёт, иной играть… А если идти некуда? И нет ни средств, ни сил? Так развеселить себя старым проверенным способом: выдумать что-нибудь уморительное и записать. «…мне наскучило горевать здесь и, не могши ни с кем развеселиться, мысли мои изливаются на письме и забывшись от радости, что есть с кем поговорить, прогнав горе, садятся нестройными толпами в виде букв на бумагу…» «Причина той весёлости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от болезненного состояния. Чтобы развеселить себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать»
Смех – великая сила. Целительная для умеющего смеяться и страшная для тех, против кого обращена. Смех – острый клинок в ловкой руке – каждый удар попадает в цель. Но какова цель? Цель – Зло. Нет в жизни цели выше, нежели борьба со злом во имя добра. А главное зло во всех сказках исходит от нечистой силы. От чёрта. Вот, и припечь чёрта! Посадить на горящую сковороду!
Холодны петербургские ночи. Свеча едва рассеивает мрак. За стеною храпит Яким. На утро рано вставать и спешить в департамент, и давно пора также улечься спать, но никак невозможно сделать этого, когда вдохновение, этот крылатый Пегас, осёдланный и взнузданный, уносит своего седока прочь из тесных стен и летит по небу, и с этой выси видна вся земля… Вон уже и родимая Малороссия, Васильевка, Диканька… Точно также, но в обратном направлении полетит кузнец Вакула, оседлавший самого чёрта…
Ах, как всё-таки прекрасна ночь! И даже холод, усугубляемый бессонными ночами, даже приступы болезни не могут истребить этого волшебства, рождённого мраком и тишиной, в которой мысль, наконец, становится свободна и может парить в каких угодно далях, когда воображаемый мир становится на короткое время реальностью… Хотя петербургскую ночь всё же не сравнить с малоросской… «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи…»
Наконец, сон смаривал, но продолжался недолго, с рассветом на улицах пробуждалась жизнь, шумели мастеровые, гремели и скрипели орудия их труда. «Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от неё не иначе, как от прекрасного прерванного сна». А в департаменте уже ждала кипа бумаг для переписывания - со всею старательностью и аккуратностью.
Такая служба, впрочем, никак не могла устроить Гоголя. Он начал заниматься учительством. Его воспитанником стал несчастный юный князь Васильчиков, родившийся слабоумным. Его мать искала учителя, который бы «мог развивать, хотя несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки и беседуя с ним целый день». Таким учителем и стал Гоголь. Летом жители столицы спасались от жары и духоты, уезжая на дачи, в Павловск. В Павловске жили и Васильчиковы, а с ними ещё никому не известный Гоголь. Днями напролёт он просиживал в детской, показывал своему ученику изображения разных животных, подражая их блеянию, мычанию, мяуканью…- Вот это, душенька, баран, понимаешь ли, баран – бе, бе… Вот это корова, знаешь, корова, му, му…
По вечерам же Гоголь читал старушкам-приживалкам княгини «Майскую ночь», и те слушали его, затаив дыхание. Его первая книга «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в ту пору уже была сдана в набор, и он чувствовал, что замысел ему удался, книга вышла свежей и оригинальной.
Когда работа спорится, она не утомляет, не лишает сил, но наоборот укрепляет их, бодрит и вносит в душу лад и ясность. «Живите как можно веселее, прогоняйте от себя неприятности… всё пройдёт, всё будет хорошо… (…) Труд… всегда имеет неразлучную себе спутницу – весёлость… Я теперь, более нежели когда-либо, тружусь, и более нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей душе величайшее» .
Кроме труда и рождавшихся в его голове грандиозных замыслов, таких, к примеру, как исторический роман «Гетман», материалы для которого отбирались с большим вниманием и любовью всё это время, была и другая причина для веселья. Гоголь, наконец, свёл знакомство со многими известными литераторами – Дельвигом, Жуковским, Плетнёвым, Вяземским… Первая робость при знакомстве с ними быстро улетучилась. Страх перед корифеями исчез. Гоголь обращался к ним почтительно, но в то же время, уже, ничуть не смущаясь, легко и непринуждённо, начиная чувствовать себе цену, благодаря высокой оценке его первых повестей, не стесняясь использовать авторитет и благоволение к себе высокопоставленных знакомых для достижения своей цели. К тому же, будучи великолепным сердцеведом, точно и скоро понимая характер человека, Гоголь умел подобрать нужный ключ к каждому, к каждому найти свой подход и для каждого подобрать верный тон, чем завоёвывал доверие. Ничего нет сложного в общении с любым человеком: нужно только понять его и подойти с нужной стороны. «Я всегда умел уважать их достоинства и умел от каждого из них воспользоваться тем, что каждый из них в силах был дать мне. (…) Так как в уме моём была всегда многосторонность и как пользоваться другими и воспитываться была у меня всегда охота, то неудивительно, что мне всякий из них сделался приятелем… Но никогда никому из них я не навязывался на дружбу… ни от кого не требовал жить со мной душа в душу, разделять со мною мои мнения и т.п…» Самое любопытное, что покровители часто, незаметно для себя, также быстро подчинялись воле Гоголя, делались ходатаями по его нуждам, радушно распахивали свои объятья новоявленному таланту. «Мне верится, что Бог особенное имеет над нами попечение: в будущем я ничего не предвижу для себя, кроме хорошего».
Главным благодетелем Гоголя стал профессор Петербургского Университета П.А. Плетнёв, не очень талантливый литератор, но добрейшей души человек, поверивший в призвание «молодого дарования» к обожаемой им педагогике. Именно он познакомил молодого коллегу с его кумиром и своим другом Пушкиным, которому прежде неоднократно писал о своём протеже в превосходных тонах («Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение»). Встреча состоялась в доме Плетнёва. Было много гостей, и это немало раздражало Гоголя, не любившего бывать на публике, к тому же в роли некой диковинки, на которую все обращают взоры. Собравшиеся гости уже занимали определённое положение, составляли свой круг, и в этом кругу Гоголь снова остро ощутил свою чужеродность. От любопытствующих взглядов и положения «младшего» страдало самолюбие, но приходилось терпеть. Ради встречи с Пушкиным, о которой он грезил столько раз, а теперь, едва завидев, впился глазами. Плетнёв подвёл его к Александру Сергеевичу и представил:
- Это тот самый Гоголь, о котором я тебе говорил.
Благословение состоялось… Когда поэт покинул вечер, Гоголь долго провожал взглядом удаляющуюся коляску, чувствуя, как бешено колотится сердце, а лихорадочный румянец заливает щёки.
В то время Пушкин был ещё мало знаком с творчеством Гоголя, но именно он, при более близком знакомстве, раньше и точнее всех определит и даже предугадает суть его дара: «Он будет русским Стерном; у него оригинальный талант; он всё видит, он умеет смеяться, а вместе с тем он грустен и заставит плакать. Он схватывает оттенки и смешные стороны; у него есть юмор, и раньше чем через десять лет он будет первоклассным талантом…»
В типографии было шумно, и всякий наборщик был занят своим делом, и выражение сосредоточенности вперемешку со скукой словно приклеилось к лицам. Но едва в дверях показался молодой писатель с характерной украинской внешностью, как наборщики, точно сговорившись, стали отворачиваться, давясь от смеха. Писатель тотчас отметил это цепким взглядом серых глаз и, направившись к фактору, полюбопытствовал у него, в чём причина столь необычной весёлости. Фактор долго мялся и, наконец, признался:
- Штучки, что вы изволили привезти для печатания, до чрезвычайности забавны… Наборщики помирали со смеху, набирая книгу.
«Я писатель совершенно во вкусе черни», - весело подумал писатель и поделился этим выводом в письме с Пушкиным. Александр Сергеевич отозвался тотчас: «Поздравляю вас с первым вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора. С нетерпением ожидаю и другого – толков журналистов…» И ещё: «Ваша Надежда Николаевна, т.е. моя Наталья Николаевна благодарит вас за воспоминание и сердечно кланяется вам…» Ах, какая досадная оплошность! Он перепутал имя жены Пушкина. Непростительно. И отчего это так бывает – иной раз спутаешь на бумаге самое элементарное, а после красней…
Между тем, Пушкин, радующийся всякому новому таланту, уже написал письмо редактору «Лит. Прибавлений к Русскому Инвалиду» Воейкову, ставшее своеобразной рецензией на книгу Гоголя: «Сейчас прочёл «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. (…) Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно весёлою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тот и проч. Пора, пора нам осмеять les precieuses ridicules нашей словесности, людей , толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и всё это слогом камердинера профессора Тредьяковского».
Глава 4.
Весна в Петербурге была не похожа на весну в Малороссии. Но и здесь всё оживало с приближением её. Солнце чаще заглядывало в окно, звенела колокольчатыми голосками капель, молодые пары прогуливались по улочкам, ещё робеющие, но уже влекомые друг к другу юные сердца бились горячо под толстым и душным покровом шуб и шинелей, и совсем по-особому смотрели глаза их. Ожил и промёрзший зимнею стужей Невский проспект, по которому так жаждал пройтись Гоголь, едва прибыв в столицу. Теперь он бывал здесь довольно часто. Бродил по вечерам в тусклом свете фонарей, вглядывался в лица прохожих, читая их, как страницы книг, запоминая и замечая, как жизнь здесь бывает похожа на маскарад, где под прекрасной маской может скрываться отвратительное лицо хохочущей падшей женщины. «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. (…) Вы думаете, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. (…) Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, ни за что не пойду за нею любопытствовать».
Данилевский, лечившийся в Пятигорске на водах, страстно влюбился в некую красавицу, которую он именовал «Солнцем Кавказа». Красавица была неравнодушна к подаркам, а потому Гоголю по просьбе друга приходилось искать для неё французские духи, модные романы, ноты… Что ответить на эти жаркие излияния друга? Отделаться, как водится, иронией? «Поэтическая часть твоего письма удивительно хороша, но прозаическая довольно в плохом положении. Кто это кавказское солнце? Почему оно именно один только Кавказ освещает, а весь мир оставляет в тени, и каким образом ваша милость сделалась фокусом зажигательного стекла, то есть, привлекла на себя все лучи его? За такую точность ты меня назовёшь бухгалтерскою книгою или иным чем; но сам посуди: если не прикрепить красавицу к земле, то черты её будут слишком воздушны, неопределённо общи и потому бесхарактерны…» Но, однако же, одной иронии было мало. Нужно было ответить что-то в тон, «поделиться сокровенным». А чем, собственно, делиться? Не открывать же подлинного положения пусть даже и лучшему другу. Лучше и приличнее присочинить. Пусть думает, что не он один может пылать такой страстью… «Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба и с таким же сарказмом, как ты, гляжу на славу и на всё, хотя моя владычица куды суровее твоей. Если б я был, как ты, военный человек, я бы с оружием в руках доказал бы тебе, что северная повелительница моего южного сердца томительнее и блистательнее твоей кавказской. Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые ensemble дышут и уместились в её, боже, как гармоничном лице…»
И ведь лгать почти не пришлось. Эта владычица была. И имя ей было – Муза. Ей он служил с тою преданностью и жаром, с каким древние рыцари боготворили своих прекрасных дам. Эта дама была прекраснее и желаннее всех, от её благосклонности зависела жизнь поэта, её немилость обрекла бы его на гибель.
Многие знакомые вступали в брак, и Гоголь не раз задумывался о своей будущности в этом плане. Но будущность эта казалась туманной и фантастичной, она почти пугала. Иные могут совмещать служение Музе и земной женщине, для кого-то они сливаются в единое целое, но иначе относился к своему служению Гоголь. Нельзя разрываться, нельзя служить двоим, иначе это окончится дурно. Вот, и Пушкин, кажется, не очень счастлив в семейной жизни. Поэт должен быть один. Священнодействие искусства требует полной отдачи, всех сил душевных и физических. Нельзя совмещать, необходимо избрать одно. Жена… Зачем, собственно, жена? «…жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того, чем более углублялся он в размышление». Муза – вот, единственная спутница поэта. Его божество, его сестра, его жена… Именно. Жена. Поэт женат на своей Музе, и изменять ей грех. Жаль, конечно, не узнать простого человеческого счастья, но его должно принести в жертву служению более высокому. «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение. Я бы не нашёл себе в прошедшем наслаждения, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия и потому-то к спасению моему у меня есть твёрдая воля…(…) Ты счастливец, тебе удел вкусить первое благо в свете – любовь… А я…»
Седьмое небо после выхода в свет «Вечеров…» показалось, в самом деле, совсем недалёким. Гоголь упивался своим успехом, временами даже теряя чувство меры. Он старался придать себе весу, принимая тон важного человека, в письмах матери наказывал выбранить почтмейстера за чрезмерно долгие задержки писем и посылок, сочинив, будто бы лично жаловался на то уже князю Голицыну и директору почтового департамента Булгакову (уловка, к слову, подействовала), а однажды и вовсе велел ей и другим знакомым посылать всю корреспонденцию ему «на имя Пушкина, в Царское Село», не спросив согласия самого Пушкина. Вышел конфуз, за который Гоголь затем путано извинялся, валя всё на «глупость корреспондента». Свои новые связи, даже самые слабые, он старался изобразить, как самые тесные и короткие. «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я…» Желая стать как можно скорее «своим» в том кругу, в который лишь успел вступить, Гоголь выдавал желаемое за действительное. «Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге…»
Завоевав Петербург, Гоголь отправился в Москву, где также сумел произвести самое благоприятное впечатление. Здесь он свёл знакомство с профессором, историком и известным издателем М.П. Погодиным, гостеприимным семейством Аксаковых, Щепкиным, чья слава начиналась в Полтаве, патриархом русской литературы И.И. Дмитриевым…
Сергей Тимофеевич Аксаков был в восторге от «Вечеров…» и тотчас согласился на просьбу Гоголя познакомить с М.Н. Загоскиным. К автору «Юрия Милославского» направились пешком. По дороге Гоголь начал жаловаться на одолевающие его недуги, присовокупив, что болен неизлечимо.
- Помилуйте, чем же? – поразился Аксаков, с недоверием поглядев на молодого литератора, которого при его весёлости и кажущейся бодрости трудно было вообразить тяжело больным.
- Стоит ли говорить об этом, - махнул рукой Гоголь. – Причина кроется в кишках… Никакие лекарства не помогают. Это очень редкая болезнь… Но, впрочем, не стоит об этом…- Должно быть, вы правы… Скажите, в таком случае, какого вы мнения о Загоскине?
- Большой талант. И много весёлости. Это важно. Без веселья – какая жизнь? Однако, он пишет не то. В особенности для театра. - Полноте, Николай Васильевич, у нас и писать не о чем, в свете всё так однообразно, гладко, прилично и пусто, что «…даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой!»
- Это неправда, - покачал головой Гоголь, - комизм кроется везде, но, живя посреди него, мы его не видим; если же художник перенесёт его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его…
Загоскин, хотя не оценил «Вечеров…» вполне, польщённый вниманием, встретил гостей нарочито радушно. Он говорил без умолку, рассказывая о своих путешествиях по всему свету. Путешествий этих не бывало в помине, Михаил Николаевич просто вдохновенно сочинял. «Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру» . Загоскин был очарован. Когда Николай Васильевич ушёл, пообещав наведаться вновь, Аксаков спросил хозяина:
- Ну что, как понравился тебе Гоголь?
- Ах, какой милый! – воскликнул Загоскин. - Милый, скромный, да какой, братец, умница!
В этот период жизни, Гоголь ощущал небывалый прилив сил. Ему казалось, что всё удастся ему, даже самые огромные и смелые замыслы. Он увлёкся историей и замахнулся написать историю Малороссии в 6 томах, а позже и многотомную среднюю историю. Ему не нравилась сухость изложения истории и казалось, что он один знает, как нужно изложить её так, чтобы было интересно, чтобы древность воскресала перед глазами читателей, увлекала их и оседала в памяти. Трудно запомнить человеку бесстрастное изложение фактов, но, если акты эти помножить на жгущий сердца людей глагол, вложить в них пламя сердца, оживить своим даром образы прошлого – то совсем по-иному раскроются страницы прошлого! Если суметь написать историю живым, образным языком, то какая великая польза будет от того для просвещения, для Отечества! Писатель и учитель – не родственные ли это стези? Не так же ли выпукло и ярко должен учитель доносить до учеников свой предмет? А до чего скучны бывают лекции! «Что за история, если она скучна!» Дурной преподаватель может убить всякую охоту к предмету. Всё закладывается в детстве и отрочестве, когда душа восприимчива ко всему, но нужно, чтобы было что воспринимать, а потому «слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный», «преподаватель должен быть обилен сравнениями».
Эта мысль овладела воображением Гоголя, он ощутил в себе призвание к педагогике, и тут ему с радостью помог Плетнёв, устроивший его младшим учителем истории в Патриотическом институте. На своих уроках Гоголь старался избегать штампов, он говорил вольно, много импровизировал, шутил и смеялся вместе с ученицами. После выхода «Вечеров…» на лето Николай Васильевич уехал в Васильевку, где его слава раздувалась до невероятных масштабов. Здесь он задержался на три месяца, поставив в крайне неудобное положение Плетнёва и начальницу института. Вернувшись, он сослался на некие недуги, задержавшие его. Проштрафившегося учителя не уволили, но решили вычесть жалование за пропущенные месяцы. Но Гоголь исхитрился и тут: устроил в институт своих сестёр и первый взнос потребовал внести как раз из той суммы, которую ему не выплатили – незаработанный оклад был возвращён…
В призвание Гоголя поверили все его знакомые, включая Пушкина. Благодаря его и Жуковского протекции, совсем ещё молодого человека без учёных степеней и научных трудов назначили адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории Санкт-Петербургского университета. О, какой это был невероятный взлёт! Теперь на него были обращены взоры цвета русской молодёжи, теперь он владел вниманием целой аудитории, в которую мог приходить каждый… Его лекции будут свежими, захватывающими, он не повторит ошибок старых профессоров, он превзойдёт их талантом и мастерством! Лекции писались по ночам, вдохновенно, как литературные творения, и до чего упоительно было ощущать, что дело удавалось, что выходило ровно то, что желалось. Гоголь не читал лекций по бумаге, а выучивал их на память и произносил, включая свой актёрский дар, создавая видимость экспромта. Кафедра превращалась в театр одного актёра, но каков был театр и каков актёр! Ученики пребывали в восторге. «Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории» . А однажды на лекцию пожаловали Жуковский и Пушкин. Гоголь знал об их приезде заранее, но сделал вид, что этот визит стал для него сюрпризом. Читать лекцию в присутствии Пушкина – серьёзный экзамен! Тут уж никак нельзя было ударить лицом в грязь, нужно было оказаться на высоте, нужно было прочесть не просто лекцию, но лекцию, рассчитанную именно на этих двух гостей, лекцию, отвечающую их мыслям и чаяниям.
Когда слушатели, включая поэтов, заняли свои места, Гоголь легко поднялся на кафедру и увлечённо заговорил о восточном правителе Аль-Мамуне. Аудитория замерла, ловя каждое слово учителя, восхищаясь его мастерством, а он говорил, набирая высоту и всё более вдохновляясь:
- Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун не понял его. Он упустил из виду великую истину, что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий…
По окончании Пушкин и Жуковский подошли к Гоголю и долго выражали своё удовольствие от прослушанной лекции. И то была высшая похвала!
Но вскоре запал, с каким принялся Гоголь за дело, прошёл. История становилась ему скучна, системный подход, без которого невозможно преподавание, вызвал отторжение, хотелось творчества, свободы, вдохновение на лекции иссякло, все она сделались «очень сухи и скучны… Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена…» Гоголь стал реже появляться в аудитории, иногда отсутствовал по две недели. Слушатели были разочарованы, а сам преподаватель уже обратил свой взор на Киев, где вознамерился сделаться ординарным профессором всё той же всеобщей истории. Отчего-то ему казалось, что там дело пойдёт иначе. Признаваться себе в отсутствии подлинного призвания к педагогике, в том, что это было лишь временное увлечение, не хотелось. Просто виноват был петербургский климат, сырой и холодный, навивающий тоску и вгоняющий в сон. То ли дело Киев, куда направляется как раз счастливец Максимович! «Итак, вы поймаете ещё в Малороссии осень, благоухающую, славную очень, с своим свежим, неподдельным букетом. Счастливы вы! А я живу здесь среди лета и не чувствую лета! Душно, а нет его. Совершенная баня; воздух хочет уничтожить, а не оживить» .
Мыль о Киеве прочно укоренилась в мыслях Гоголя и о своём отъезде он говорил уже, как о свершившемся факте, будучи уверен, что ходатайства Пушкина, Вяземского и Жуковского к их бывшему товарищу по Арзамасу, а ныне министру просвещения Уварову, вкупе с написанным самим соискателем планом преподавания, возымеют мгновенно нужное действие. «Во мне живёт уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты. Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве…»
Но на этот раз протекция не помогла. Попечитель Киевского учебного округа Брадке имел свою креатуру на просимую Гоголем должность, а потому предложил Николаю Васильевичу место адъюнкт-профессора или профессора русской истории. Гоголь гордо отказался, рассчитывая «дожать» упрямого Брадке. Но коса нашла на камень, и переезд в Киев не состоялся. Больно, больно получать такие удары, больно, когда ставят на место. А, главное, стыдно. Стыдно собственных знакомых, перед которыми так занёсся, которым уже раструбил о своём скором назначении, а иные из них уж наверное за глаза ухмыляются: что, мол, конёк резвый, обломали тебе твои быстрые ноги? Вначале ещё делал хорошую мину при плохой игре, говоря о временных задержках, хорохорился. «Нет гранита, которого бы не пробили человеческая сила и желание». Но и призрачная надежда была развеяна окончательно. Приходилось идти на попятную, почти оправдываться… «Я немного обчёлся в обстоятельствах своих». Вот, верно же говорит пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь канавку. А он сказал, а перепрыгнуть не смог. Стыдно. Но и в таких огорчениях есть польза, они отрезвляют, и более ясным взглядом можно увидеть себя и свои обстоятельства…
Преподавательская карьера Гоголя сошла на нет. Горько было сознавать это и, временами, тоска овладевала душой, но он гнал её прочь. «У нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это чёрт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая весёлость» .
Оканчивался 1833-й год, год «ужасных кризисов», наступал новый, и к нему обращал теперь Гоголь полный надежд взор, чувствуя прилив творческих сил, ему клялся, к нему взывал так, как взывают к возлюбленной или божеству.
«Великая торжественная минута. У ног моих шумит моё прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений. О не скрывайся от меня… Какое же будешь ты, моё будущее?.. О будь блистательно, будь деятельно, всё предано труду и спокойствию!.. (…) Я не знаю, как назвать тебя, мой гений!.. О взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. …Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!.. О поцалуй и благослови меня!»
После выхода «Вечеров…» Гоголь писал мало. «Багаж», привезённый из дому, был исчерпан, свежих же идей не приходило. Все ждали от него новых «штучек» на манер «Диканьки», но это был уже пройденный этап. Нужно было искать новых тем, иногда что-то возникало в уме, начинало писаться и обрывалось от ясного сознания, что выходит «не то». «Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою. О, не знай его! …Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость, он один составляет оппозицию против всего, он ужасно издевается над собственным бессилием» .
Для Гоголя не было муки большей, нежели не писать. Лишь работая, он чувствовал себя нужным, полезным, в эти часы он был царь и бог, творец, своим талантом прозревающий глубины человеческого сердца, создающий яркие образы, в эти часы он не раб лукавый, зарывший в землю дарованный талант, но добрый раб, умножающий его и тем исполняющий свой долг. Гоголь-писатель поднимался на недосягаемую высоту, но Гоголь-человек вне своего дела оставался всего лишь бедным, мелким чиновником без поприща, на которого любой лакей глядел свысока, «маленьким человеком», не имеющим ничего за душой. С Гоголем-писателем как с ровней говорят князья, Гоголя-человека может окинуть презрительным взором любой ничтожный чиновник, имеющий крупицу власти. Вечное унижение. «Погоди, приятель! Будем и мы полковником, а, может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведём и мы себе репутацию ещё и получше твоей» . В писательском труде утешалась вечно унижаемая гордость и желание приносить пользу. Может быть, отчасти именно поэтому ударился Гоголь в педагогику, надеясь ей восполнить вакуум творческого простоя, обеспечить себе положение, звание и место вне звания писательского, столь ненадёжного, ещё многими не воспринимаемым всерьёз. Даже родня жены самого Пушкина желала, чтобы великий поэт имел чин и официальное поприще. Но стать профессором не удалось и можно было бы впасть в отчаяние, если бы Музы вновь не явила свой милостивый лик…
«Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил». За счастливый 1834-й год Гоголь написал две книги «Арабески» и «Миргород», в которые вошли повести «Вий», «Старосветские помещики», «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Женихи» (будущая «Женитьба»)… Но главном творением в этом ряду стал «Тарас Бульба». Увлечённость историей Малороссии, наброски романа «Гетман» не прошли даром, послужив основой для этой повести, заслужившей восторженные похвалы самых разных критиков и общественных слоёв. Это был эпос, первое произведение, в котором Гоголь заявил о себе не только как о бытописце, писателе нравов, сатирике. Всегда мечтая написать вещь серьёзную, трагическую, великую, он, наконец, создал повесть, отвечающую этим чаяниям, и в голове его уже начал зарождаться план трагедии из жизни запорожских казаков…
В отличие от «Бульбы» остальные повести Гоголя встретили неоднозначный приём в журнальной среде. И в этот-то момент явилась статья В.Г. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», в которой тогда ещё начинающий критик писал, что «Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов, он становится на место, оставленное Пушкиным». Статья эта была весьма кстати и очень понравилась Гоголю, в первую очередь, той тонкостью, с которой Белинский определял качества истинного творчества: «Ещё создание художника есть тайна для всех, ещё не брал пера в руки, а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, избражденного страстями и горем, - а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать; сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьёт их и свяжет между собою»…
- Это совершеннейшая истина, - сказал Гоголь, прочитав этот отрывок.
Однако, Пушкин ещё не оставил своего места, как поспешил заявить Белинский. Пушкин готовился к изданию своего журнала, идею которого вынашивал давно. Он оставался первым и главным критиком Гоголя, и этот критик сочувственно принял новые повести.
Между тем, Гоголь мечтал создать нечто новое для театра, любовь к которому не проходила с годами. Смех – великое оружие и, обладая им, грех палить по ничтожным мишеням, пора дать залп по подлинному злу. Каково же главное зло в России? Неправые суды, воровство, взяточничество – не с ними ли намеревался бороться ещё в Нежине, изучая право и намериваясь заниматься юстицией? Не вышло правоведа, так можно бороться с этим злом иным способом – собрать всё худшее, что есть на Руси и разом высмеять! Но где взять сюжет?.. Спросить совета Пушкина! «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать… комедию». Пушкин припомнил случай, как его однажды приняли за ревизора. Подобное случалось и с его знакомыми. Гоголь решил испытать это на себе. По дороге из Киева в Харьков он вместе со своими спутниками Данилевским и Пащенко разыграл целый спектакль. Пащенко выезжал вперёд и возвещал на всех почтовых станциях, что следом за ним инкогнито едет ревизор из Петербурга, притворяющийся простым адъюнкт-профессором. Следом прибывали Гоголь и Данилевский, которых встречали весьма любезно. Гоголь, виртуозно играя свою роль, невинно спрашивал показать ему лошадей, задавал иные подозрительные вопросы. В итоге, испуганные смотрители давали им в числе первых лучших лошадей, тогда как обычно заставляли ждать до последнего, и друзья быстро и весело проделали свой путь.
Служба в университете, между тем, была завершена окончательно. «Неузнанный я взошёл на кафедру и неузнанный схожу с неё. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за своё дело взялся – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души» . Теперь Гоголь был полностью поглощён идеей комедии. За прототипом для главного героя Скакунова, позже переименованного в Хлестакова, не нужно было и ходить далеко. «…я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью…» А ведь и в самом деле эким Хлестаковым размахнулся на университетском поприще – профессор по наитию! Так и прорывались во всё это время замашки хвастуна, уверовавшего в собственные басни. Да и прежде того Хлестаков давал себя знать. Вот так и проучить в себе этот огрех, самого себя высмеять. Впрочем, найдётся ли человек, который хоть изредка хоть самую малость не делался бы Хлестаковым?
Смех – великая сила… Но различен источник его. Часто смех призван заглушить собственную печаль. Сколько раз в болезненные и тоскливые минуты нарочно сочинялись уморительные сценки, чтобы развеяться… «И почему знать – может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, - в силу тех же самых законов, кто льёт часто душевные, глубокие слёзы, тот, кажется, более всех смеётся на свете!..» «Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр, приношу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части…»
19-го марта 1836-го года высший свет во главе Государем Императором присутствовал на премьере «Ревизора» в Александринском театре. Государь смеялся, смеялись и остальные, и лишь автор готов был провалиться сквозь землю и в продолжение всего действа, сидя в окружении вельмож, которым оставался чужд, которые продолжали смотреть на него свысока, испытывал подлинную муку. Не то играли актёры, не на то и не так реагировала публика. «Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мёртвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергло в небесные слёзы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести своё вечное слово: «побасёнки!» Не выдержав этого мучения, Гоголь сбежал из театра, не дождавшись конца представления. Он бросился к старому нежинскому товарищу Прокоповичу, и тот протянул ему только что вышедшую книгу «Ревизора»:
- На, полюбуйся на своё дитя.
Гоголь бессильно опустился за стол и, уронив голову, простонал:
- Никто, никто не понял!
«Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвёртое представление нельзя достать билетов» .
Разумеется, не всё так безнадёжно и отчаянно, но Гоголь всегда был склонен преувеличивать размеры несчастья, и теперь ему виделся полный провал своего детища, его позор, а потому он разом потерял всякую охоту заботиться о нём дальше, заниматься постановкой в Москве. «Мочи нет. Делайте, что хотите с моею пиесою, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней…»
Упрёки исходили, в самом деле, с самых разных сторон. Иные литераторы нападали за грубость языка, за отсутствие эстетики, будто бы пьеса оскорбляла общественный вкус. Наконец, сердились, что не было ни одного положительного героя во всей комедии.
«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица бывшего в моей пьесе. Да было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во всё продолжение её. Это честное, благородное лицо был – смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое даётся ему в свете. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозвание комику – прозванье холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за это смех» .
Однако были и те, кто высоко оценил «Ревизора». Одна беда, даже среди них было мало тех, кто понял его, как должно. Многие подходили к пьесе с узких идеологических платформ и ценили её за мнимую «фронду», записывая автора в свои ряды, ряды обличителей не пороков, живущих в каждом, а режима, и тем невольно принижая его.
«Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указанья слабых и смешных собственных сторон» . Умом нетрудно всецело осознать эту истину, но душа будет продолжать болезненно сжиматься от каждой критики, даже обоснованной. И может быть, прежде всего, от обоснованной. Глупой критикой можно пренебречь, списать её на невежество критикующего, но критика справедливая язвит пребольно, потому что она вызывает тотчас упрёки самому себе, раздражение не против глупого критика, а против себя самого…
Было и ещё одно обстоятельство, удручающее Гоголя, о котором он не говорил ни с кем, переживая его внутри себя. Приглашённый Пушкиным в «Современник», он с жаром принялся за работу. Он горел желанием помочь Пушкину. Он выступал на брань со всеми журнальными и литературными оппонентами «Современника» с тем, чтобы не оставить от них камня на камне. Не того желал Пушкин, но на этот раз Гоголь не угадал нужного тона, не проявил той дипломатичности, которая была ему так свойственна. Он ввязался в схватку, в которой противники обменивались уколами рапир, с тяжёлой палицей, которой поспешил размазать по земле всех: и своих, и чужих. Таковой палицей стала статья Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», где автору явно изменило чувство меры. Досталось совершенно всем – от Булгарина и Греча, исконных врагов Пушкина, до Загоскина и Погодина, друга самого Гоголя. Прочитав статью, Пушкин вынужден был настоять на вымарывании из неё отдельных мест (в частности, упоминания об оскорблениях, нанесённых Гоголю редактором самого крупного журнала «Библиотека для чтения» Сенковским) и снятия подписи автора. Это было едва ли не больнее, чем все толки вокруг «Ревизора». Пушкин не понял его, и это было самым горьким. Позже, когда скорректированная статья увидит свет, то вызовет большой скандал, в авторстве будут подозревать даже Пушкина. Александр Сергеевич выступит под псевдонимом и напишет отзыв на статью Гоголя, в которой посоветует: «Врачю, исцелися сам!» Сам Гоголь в это время уже будет за границей…
О разладе с Пушкиным, также преувеличенном в собственных глазах, он не обмолвился никому, по обыкновению, скрывая самые сильные потрясения, и причину своего крайне удручённого состояния списал исключительно на неудачу «Ревизора» и болезненное состояние. «И то, что бы приняли люди просвещённые с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать, какую-нибудь только живую и верную черту – значит, в переводе, опозорить всё сословие и вооружить против него других, или его подчинённых. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно своё отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? (…) Всё, что ни делалось со мною, всё было спасительно для меня: все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на моё воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня» .
«Еду заграницу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне…»
Тяжко, тяжко оставлять Родину. Даже и веря, что не навсегда, что в любой момент можно вернуться. Тяжела разлука с милыми сердцу людьми, с привычным образом жизни со всем родным и дорогим. Но бывает так, что оставаться тяжелее вдвойне. Пьянящий кубок славы уже испит. Накопленный прежде запас исчерпан, а повториться невозможно. Есть грандиозный замысел, но великих сил требует он, а силы эти нещадно распыляются на обеды и вечера, на журнальные склоки – на «обязанности» известного литератора. И никак не изменить того, чтобы не обвинили в гордыни, в манкировании, чтобы не сочли себя оскорблёнными даже друзья. И всё это, как петля, удушает, не даёт вздохнуть, остановиться, размыслить, оглядеться… Суета сует. А сил – надолго ли хватит? Ведь и Пушкин не так давно увещевал, что при столь слабом здоровье нужно непременно, не откладывая, взяться за вещь серьёзную, и, как всегда, был прав. Но как среди этой суеты углубиться в серьёзное? Нет, одним ударом разрубить гордиев узел, расстоянием спастись от тесных объятий, освободиться… «Мне хочется поправиться в своём здоровьи, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора мне уже творить с большим размышлением…»
Но больно, невыносимо больно разрывать узы с дорогими людьми. Счастье, что хоть ближайший друг Данилевский согласился также проехаться по Европе. Но а другие? Мать, сёстры, Жуковский, Плетнёв..? «Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы отдалённом уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представляться мне слушающим меня читающего» . Больно рвать нити, но необходимо во имя высшей цели, во имя дела, для которого одного, может, и вся жизнь только и дана была. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведённого в школьных занятиях, в юношеский возраст» .
Но всего горше разлука с Пушкиным. С учителем. Со светочем. «Когда я творил, я видел перед собой Пушкина». С ним даже и проститься не удалось. Но и это – необходимо. Может, только расстоянием и можно спасти ту духовную связь, давшую трещину при чрезмерном сближении на почве совместной работы в «Современнике». Пушкин отдалился, Пушкин не понял, не оценил ретивости своего молодого сотрудника (а ведь, в первую голову для него, и были все старания!), Пушкин занят своими хлопотами… Продлись ещё это сотрудничество, и трещина разрослась бы в пропасть, и уж это было бы величайшим горем, потому что большего несчастья, нежели потерять Пушкина, просто не может быть. Расстояние сглаживает все углы, на расстоянии всё видится иначе. Может, как раз расстояние и поможет заживить рану, и по возвращении, при новой встрече с Пушкиным всё станет на свои места…
Впереди Европа, почти не знакомая, почти чужая, новая жизнь. Позади триумфы в литературном мире, головокружения от славы и смелые замыслы, не удавшаяся карьера педагога, непонятость и шумные споры вокруг «Ревизора», неудачная работа в «Современнике»… Нет, всё правильно, всё – к лучшему. «Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии были ни на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни, и нынешнее моё удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим всё воспитание моё. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что на свете я не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, моё имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет отдалён от неё» .
Глава 5.
Чудной город Париж! И чудной и чудный. И люди в нём – сплошь развлечённые. И, большей частью, политикой. «Здесь всё политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, чем о своих собственных» . Париж Гоголя развлёк, но не приворожил надолго. Слишком шумен он был, слишком не доставало ему, европейскому ветренику той глубины и сосредоточенности, которая была необходима Гоголю. «Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтоб погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, - не думаю…» Тем не менее, он провёл там довольно продолжительное время, осматривая достопримечательности и с особенным удовольствием посещая итальянскую оперу и театры, которые произвели на него огромное впечатление уровнем мастерства, которого так не хватало в театрах русских. Гоголь развеивал хандру и попутно размышлял над планом «Мёртвых Душ», сюжет которых подарил ему Пушкин. «Огромно велико моё творение, и не скоро конец его. Ещё восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение! Кто-то незримый пишет предо мною могущественным жезлом. Знаю, что моё имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слёз, произнесут примирение моей тени» . Зимой Гоголь несколько раз бывал в гостях у А.О. Смирновой-Россет, также бывшей тогда в Париже. Александра Осиповна родилась в Малороссии, и потому все вечера проходили в разговорах о родном крае, пелись украинские песни, столь любимые и собираемые Гоголем, сыпались шутки… Между тем, оставленная родина начала звать к себе, стоило только расстаться с нею. «Теперь предо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моём Русь, - не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь…»
В это время из России пришла громовая весть. Не стало Пушкина. «Что месяц, что неделя, то новая утрата; но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Всё наслаждение моей жизни, всё моё высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеётся, чему изречёт неразрушимое и вечное одобрение своё – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет не вкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… (…) Невыразимая тоска!» Это был страшный удар для Гоголя. Могли думать он, покидая Россию, что никогда больше не увидит Пушкина? Сильнее, чем когда-либо, Гоголь ощутил своё полное одиночество. Он остался один на вершине завоёванного Олимпа, правопреемником и наследником Пушкина. Но об этом он не в силах был даже подумать. «Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, я… я и в сотой доле не могу выразить всей моей скорби. Моя жизнь, моё высшее наслаждение умерло с ним» . Казалось, что со смертью Пушкина всё кончено. Даже Россия сделалась какой-то другой, чужой. Россия без Пушкина… Разве это Россия? «Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине?» Жизнь, однако, не кончена. Остался долг. Долг перед Пушкиным. «Я должен продолжать мною начатой большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысль есть его создание и которой обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтобы она была долговечна…»
Местом своего пребывания за границей Гоголь избрал Италию. «Она моя! Никто в мире её не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине…» Но, несмотря на это неразрывна была связь с Россией. «Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнажённые пространства предпочёл я лучшим небесам… Ни одной строки не мог я посвятить чуждому». Жизнь в тёплом и солнечном Риме с его величавым спокойствием, многовековой глубиной, с неспешным течением времени и великолепными красотами, далёкими от нанеси современной суеты, была хороша, но средства к существованию быстро иссякли. «…я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду…» Парадокс! Написав столько произведений, которыми зачитывалось русское общество, ни единого дня в жизни не пребывая в праздности, он оказался нищ, нищее самого ничтожного чиновника или дьячка в России. «В чужой земле я готов всё перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдёт до этого дело. Но в своей – никогда». Между тем, руку Гоголь всё-таки протянул. Не в прямом смысле слова, конечно. Протянул в Россию. К друзьям, у которых вынужден просить в долг. Жизнь в долг – что может быть тяжелее и унизительнее? Тяжко быть всё время обязанным кому-то. Отец всю жизнь был должником Трощинского, сам Гоголь оказался обязан отнюдь не одному человеку. И, хотя они все люди благородные, от этого не легче. Но иного нет выхода. Нужно работать над «Мёртвыми Душами», а эта работа требует всех сил, и ни на что иное не остаётся их, а, значит, нужно вновь и вновь ломать свою гордость, просить. «…Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему «Ревизору». Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдёте его написанным как следует, будьте моим представителем, вручите! Если же оно написано не так, как следует, то он – милостив, он извинит бедному своему подданному…» Государь откликнулся на просьбу Гоголя, переданную ему Жуковским и послал вспомоществование в размере 4-х тысяч рублей…
В Риме Гоголь близко сошёлся с художником Александром Ивановым, с которого во второй редакции «Портрета» будет списан художник, соученик несчастного Чарткова, чьё полотно так поразило его. Этот удивительный человек посвятил жизнь написанию своей великой картины «Явление Христа народу», он отошёл от мира, жил, подобно монаху, шаг за шагом, год за годом доводя до совершенства свой замысел. Гоголь часто бывал в мастерской Иванова, восхищался этим самоотречением, терпением и святости служения художника, видя в нём пример для себя. Также как Иванов, он стремился к совершенству задуманного творения, его абсолютной отточенности. Приехавшему в Рим Жуковскому Гоголь читал первые главы своей поэмы. «Забавно и больно» - записал о них Василий Андреевич. Но в отличие от Иванова Гоголь не был способен полностью удалиться от мира, жить в абсолютном затворе. «…странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем поговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным».
Работа продвигалась медленно. Сказывалось и ухудшающееся здоровье. «Увы! Здоровье моё плохо! И гордые мои замыслы… О друг! если бы мне на четыре, пять лет ещё здоровья… Пожалей о мне!» Он был ещё молод. Ему едва исполнилось 30, но он чувствовал себя уже древним старцем. «…тяжело очутиться стариком в лета, ещё принадлежащие юности…» А если приведётся дожить до старости настоящей? С её совершенной немощью и омертвелостью чувств? Нет, это ещё хуже смерти. Погребённость заживо… Страшна старость… «Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. (…) Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдаёт назад и обратно! Могила милосерднее её, на могиле напишется: «Здесь погребён человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости» Тем не менее, он продолжал время от времени шутить, устраивая целые представления, смеша всех присутствующих. «Преуморительные были сцены», - отмечал Погодин. Весёлость била через край, била почти нарочито, а затем сменялась меланхолией, тоской, и Гоголь уединялся в тишине церквей, ища успокоения и подкрепления угасающих сил в чём-то высшем…
Между тем, настало время возвращаться в Россию. Нужно было забрать сестёр из Патриотического института и устраивать их судьбу. Ехать не хотелось отчаянно, но пришлось. Вместе с Погодиным Гоголь прибыл в Москву. «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось сильно. Но долг и обязанность последняя: мои сёстры» . Он надеялся уладить дела за два месяца и уехать обратно в Рим, а до тех пор остановился у Погодина. В столицу забирать сестёр Гоголь поехал вместе с Аксаковыми. В неё, опустевшую после смерти Пушкина, ехать не хотелось вдвойне. «…одного я никак не мог предчувствовать – смерти Пушкина, и я расстался с ним, как будто бы разлучался на два дня. Как странно! Боже, как странно! Россия без Пушкина! Я приеду в Петербург – и Пушкина нет» . Это сиротливое чувство не покидало Гоголя во время всей поездки.
Странная штука жизнь… Стоило ступить на родную землю, и целый водопад ликований, приветствий, приглашений обрушился на него, словно все эти годы только его и ждали здесь, и ждали чего-то от него. Чего-то великого. Чего? Тяжел груз ответственности, вдруг сваливающийся на слабые плечи, ответственности перед этими полными ожидания взорами. «Русь, чего же ты хочешь от меня?» Но ответа на этот вопрос не было, потому что разделившееся на партии и лагеря русское общество ожидало разного. Как каждая партия видела только свою Русь, так видела только своего Гоголя. Каждая партия старалась залучить его в свой лагерь, словно бы уже был он чьей-то собственностью, был обязан мыслить исключительно определённым образом, и мысли другие непременно вызывали обиды, словно бы являлись изменой, хотя кому мог изменить писатель, не присягавший на верность ни одному лагерю, искавший единства, а не раскола, в котором каждая часть гордо мнит себя целым. Звали в свою партию москвичи во главе с Погодиным, звал Плетнёв, звал Белинский… «…они все встретили меня с разверстыми объятиями. Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой идее и встречая в других противников своему мнению, ждал меня как какого-то мессию, которого ждут евреи, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против других, считая это первым условием и актом дружбы… (…) …началось что-то вроде ревности… Каждый из них на месте меня составил себе свой собственный идеал, им же сочинённый образ и характер и сражался с собственным своим сочинением в полной уверенности, что сражается со мною» . Нет, нельзя писателю примыкать совершенно к одной какой-то партии, иначе она уж возомнит, что имеет право на него и обратиться в диктатора, иначе оскорбятся все прочие, а писатель не должен раскалывать, но наоборот – объединять, ибо блаженны миротворцы. «Искусство не разрушенье»… Ещё несколько лет назад были лишь движения литературные, а ныне политика стала овладевать умами и сеять вражду между талантливыми и по-своему любящих своё Отечество, желающих блага, искренними и благородными людьми. Отчего это? «Почти у всякого образовалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры…»
Странная штука жизнь… Столько славы и почестей, а ни гроша в кармане. Ни угла своего, ни денег на то даже, чтобы приодеть сестёр. Спасибо сердобольному старику Аксакову, который тотчас же дал необходимую сумму, до слёз тронутой тем, как стыдясь и краснея, Гоголь пытался сформулировать свою нужду… Столько славы, а такая непроглядная нищета, от которой впору завыть. Ни малейшей надежды расплатиться с долгами, но приходилось занимать ещё. Участь вечного должника, нахлебника – что может быть унизительнее?
Вместе с сёстрами Гоголь остановился у Погодина, своего главного кредитора. Вот, кто, может, более других чувствовал своё «право». Ему нужны были не только материалы в журнал, но и откровенность, открытость души. А скрыть это не хватало такта. Бывший крепостной, ставший профессором университета, он слишком знал, что почём в этой жизни и не привык упускать своего. Кулак, как есть кулак! Пребывание в его доме сделалась для Гоголя настоящей пыткой. А приходилось занимать вновь и вновь уже у других, почти по-хлестаковски, без надежды отдать. Чтобы хоть как-то поправить своё положение, Гоголь решил издать свои сочинения, ради чего пришлось кланяться главному книготорговцу Смирдину… Кланяться, кланяться, кланяться – ради обожаемых «голубушек» сестёр и матери приходилось идти на поклон ко всем. А, между тем, гостиные, посещение которых также сделалось в тягость, рукоплескали ему, когда он читал первые главы своих «Мёртвых Душ». Ах, если бы хоть часть этих рукоплесканий можно было перевести в деньги… Если бы вовсе никогда можно было не думать о деньгах! Какая несправедливость: любая должность приносит доход, а труд писателя не ставится ни во что, словно бы он бездельник и небокоптитель…
Всё время пребывания на родине Гоголь мучился своим положением должника и мечтал лишь об одном: вновь оказаться в Италии, в прекрасном Риме, где вовсю цвела весна. «Какая весна! Боже, какая весна! (…) Как хороши теперь синие клочки неба промеж дерев, едва покрывшихся свежей, почти жёлтой зеленью, и даже тёмные, как воронье крыло, кипарисы, а ещё далее – голубые, матовые, как бирюза, горы Фраскати и Албанские, и Тиволи! Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере семьсот ангелов влетают в носовые ноздри. Удивительная весна!..»
Сестёр устроить не удалось. Одну пришлось отправить к маменьке, другую оставить в Москве на попечение малознакомой особе… Средств было столь мало, что едва хватало на собственный отъезд, и Гоголь дал объявление в газету в поисках человека, который бы согласился разделить с ним расходы на дорогу в Рим в дилижансе. Таковым попутчиком стал молодой родственник Аксаковых.
Перед отъездом в честь именин Гоголя в саду Погодина собралась вся московская интеллигенция. Среди гостей был невысокий молодой поручик в пехотной форме. М.Ю. Лермонтов. О нём Гоголю много говорил Белинский. Тогда состоялась их встреча. Лермонтов уже создал почти все главные свои произведения, ими пестрели страницы журналов. Ему было 26, но какая-то тень лежала на челе его, тень роковой предначертанности, сквозившей и в поэзии его. «…он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось ещё ни у одного из наших поэтов…» Этот молодой человек даже талант свой ни во что не ставил, и это пренебрежение Божьим даром поразило и почти ужаснуло Гоголя. В тот вечер Лермонтов был весел, в отличие от молодых москвичей вовсе не стеснялся его. Впрочем, Гоголь был всего пятью годами старше его… Лермонтов читал ему «Мцыри» в прохладном, полном ожидания дождя саду. Ему оставалось жить всего лишь год, Гоголю – двенадцать лет… Их пути расходились, сойдясь на перекрёстке, расходились навсегда. Лермонтов уезжал на Кавказ, чтобы погибнуть там, Гоголь – в Италию, чтобы пережить глубокий духовный перелом и возвратиться в Россию…
Наконец, хлопоты, унижения и мучения были завершены, с небольшим багажом Гоголь поместился в дилижанс и тронулся в путь. В дороге ему всегда хорошо думалось, дорога словно защищала его, вырывая из тисков повседневной жизни. Мысли текли ровно, новые образы и картины рождались перед глазами, и в душе водворялся мир. «Боже! как ты хороша подчас, далёкая, далёкая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грёз, сколько предчувствовалось дивных впечатлений!..» Вокруг лежали печальные просторы родной земли. Впереди ждало солнечное великолепие Италии. «Бросьте всё! и едем в Рим. О если б вы знали, какой там приют для того, чьё сердце испытало утраты. Как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни! Боже, Боже, Боже! О мой Рим! Прекрасный мой, чудесный Рим! Несчастлив тот, кто на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца прошли, и он на возвратном пути к тебе. Клянусь, как ни чудно ехать в Рим, но возвращаться него в тысячу раз прекраснее…»
Тиха поступь смерти. Она подходит, нежданная, непрошенная, обдаёт холодом своего мертвящего дыхания, протягивает руку… «Малейшее какое-нибудь движение, незначащее усилие, и со мной делается чорт знает что. Страшно, просто страшно. Я боюсь. А так было хорошо началось дело. Я начал такую вещь, какой, верно, у меня до сих пор не было, - и теперь из-под самых облаков да в грязь»… А как всё прекрасно казалось совсем недавно! В Вене мариенбадская вода сделала настоящее чудо: пробудила от летаргического сна, вернула бодрость юности и вдохновение! Вот, теперь-то драма из украинской истории не могла не выйти! «Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся предо мною в величии таком, что всё во мне почувствовало сладкий трепет, и я, позабывши всё, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей». И воды отомстили за это нарушение… О, какой холод, какой пронзающий, парализующий холод! Какая чудовищная тяжесть в груди, какое напряжение и раздражение нервов, вызванное «страшным воображением», а к тому остановка пищеварения… «…то, что могло помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на желудок. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания». Вот она, смерть. Страшна смерть. Ужасна смерть. То же было и с несчастным Вьельгорским… Прелестный юноша с прекрасным будущим сгорел от чахотки на глазах Гоголя, не отходившего от него. Умирающий уже не мог говорить, а только писал на листках блокнота, а Гоголь говорил. Он смотрел на бедного страдальца, потрясённый этой несправедливо ранней кончиной, этой страшной победой смерти над цветущей жизнью, и представлял, как однажды, должно быть, довольно скоро, смерть ледяной и безжалостной рукой постучится и в его дверь… И, вот, постучалась. Вот, она – чёрная бездна, из которой нет сил выбраться. И для чего именно теперь? Теперь, когда не окончено, не исполнено ещё начатое дело. Горько уходить, не завершив… Страшно не успеть… «Мне бы два года теперь… только два года…» Два года работы! Их бы хватило, чтобы закончить, а там можно и умереть с сознанием исполненного долга… И не здесь, здесь бы следовало провести их… В России! Как глупо, однако… Всю жизнь знать, что жизнь эта будет коротка, предчувствовать смерть, а при приближении её впасть в панику… А доктора? Доктора развели руками и, кажется, уже поставили крест… Но нет, слишком уж мерзко было бы умереть среди этих бюргеров. Уехать, немедленно уехать! Бежать! «Дорога, моё единственное лекарство, оказала и на этот раз своё действие. Я мог уже двигаться»… С приездом в Рим болезнь стала отступать. «Я до сих пор не могу понять, как я остался жив, и здоровье моё в таком сомнительном положении, в каком я ещё никогда не бывал…» Остался жив… Смерть отступила… Отчего отступила она? Лишь волей единого Создателя это могло быть… Стало быть, для чего-то помиловал Господь. Для исполнения чего-то главного и высшего продлил срок пребывания души в бренном теле. И, значит, теперь единая святая обязанность – исполнить то, ради чего воскрешён из разверзнувшейся бездны, и этому долгу отныне должна быть подчинена вся жизнь. Странное чувство – воскрешение. Робкая радость, ещё не верящая в чудо, боящаяся спугнуть его. Должно быть, так первые травинки пробуждаются весною из-под снега… «Чудно милостив и велик Бог: я здоров. Чувствую свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мёртвых Душ». Вижу, что предмет становится глубже и глубже. Даже собираюсь в наступающем году печатать первый том, если только дивной силе Бога, воскресившего меня, будет так угодно. Многое совершилось во мне в немногое время…» О, сколько пользы выходит от недугов! И не роптать нужно на них, а благодарить… «…слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принесть душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осуждён, как последний из преступников… Слыша всё это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперёд, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла» …
Глава 6.
«Всякий перелом, посылаемый человеку, чудно-благодателен. Это лучшее, что только есть в жизни. Звезда и светильник, указующий ему, наконец, его настоящий путь». Первый том «Мёртвых душ» был, наконец, завершён, оставалось лишь подчистить отдельные фрагменты. Его издание вкупе с заново отредактированными «Ревизором» и «Портретом» должны были поправить материальное положение Гоголя. «В начале же 42 года выплатится мною всё… Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Всё было дивно и мудро расположено высшею волей: и мой приезд в Москву, и моё нынешнее путешествие в Рим – всё было благо» .
Всё, всё в нашей жизни устроено мудро и верно, всё предначертано рукой Создателя, всё происходит в нужный час, и великий грех – ропот на высший промысл, благо которого не всегда становится очевидным тотчас. Болезни всегда считались на Руси не карой, но милостью, посещением Божиим. Слаб человек и, когда благополучен, редко вспоминает Бога, черства душа его, чтобы каяться и здесь, в этой жизни, оплакивать грехи свои, и, вот, болезнь укрощает его, заставляя страдать плоть, спасает бессмертную душу для жизни вечной. «Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! Каким бы значительным человеком вообразил себя!» Недуги помогают смирению, а смирение – первая добродетель… «Вся жизнь моя отныне – один благодарственный гимн!»
Церковь Христова есть церковь кающихся. Покаянием спасается грешная душа, покаянием и искуплением. Художник больше, чем кто-либо, должен беречь чистоту души, потому что его душа, как в зеркале, отражается в его творениях, и, если черна душа, то не смеет он касаться ликов святых, потому что сквозь них проступят черты дьявола… «Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-нибудь одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна» .
Когда-то ещё на первых ступенях своего творческого пути Гоголю довелось услышать анекдот из жизни некого бедного чиновника. Будучи страстным охотником, он, отказывая себе во всём, усиленными трудами скопил сумму на покупку дорогого ружья и, счастливый, пустился на лодке по Финскому заливу. Бедняга не заметил, как ружьё было стянуто в воду густым тростником, и отыскать его было никак невозможно. Вернувшись домой, чиновник слёг с горячкой и был возвращён к жизни только благодаря товарищам, которые собрали деньги и купили ему новое ружьё. Все смеялись этому анекдоту, и лишь Гоголь задумался и опустил голову. Теперь же, спустя годы, на основе этой трагикомической истории была создана повесть «Шинель».
Настала пора вновь ехать в Москву. Но на этот раз он возвращался в Россию не с пустыми руками, возвращался в состоянии душевного подъёма и просветлённости. «И как путешественник, который уложил уже все свои вещи в чемодан и усталый, но покойной ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далёкий, верный желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутренною удалённою от мира жизнию, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готов идти укреплённый и мыслью и духом»…
Россию Гоголь нашёл ещё более разделённой на лагеря, каждый из которых ещё более деспотично пытался записать его в свои ряды. «…ещё никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда ещё различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всём. Сквозь всё это пронёсся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Всё это сбило и спутало до того у каждого его мнение о России, что решительно нельзя верить никому…»
Обижался Белинский, чувствуя, что Гоголь «отходит» от верного пути, обижаясь на нелестные отзывы о Париже в «Риме» и подозревая своего недавнего кумира в славянофильстве, обижались москвичи, потому что именно Белинскому доверил Гоголь везти в Петербург рукопись «Мёртвых Душ»… Наконец, нанесла свой удар и цензура: московская вовсе запретила выход поэмы, столичная - задержала её выход и потребовала серьёзным образом урезать «Повесть о капитане Копейкине». Положение Гоголя становилось отчаянным, почти бедственным. «Всё моё имущество и состояние заключено в труде моём. Для него я пожертвовал всем, обрёк себя на строгую бедность, на глубокое уединение, терпел переносил, пересиливал сколько мог свои болезненные недуги в надежде, что, когда совершу его, отечество не лишит меня куска хлеба… (…) Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить вспомоществования и милости, я прошу правосудия, я своего прошу: у меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба. Почему знать, может быть, несмотря на мой трудный и тернистый жизненный путь, суждено бедному имени моему достигнуть потомства. И ужели вам будет приятно, когда правосудие потомства, отдав вам должное за ваши прекрасные подвиги для наук, скажет в то же время, что вы были равнодушны к созданьям русского слова и не тронулись положением бедного, обременённого болезнями писателя, не могшего найти себе угла и приюта в мире…»
Мытарства с этим делом затянулись не на один месяц. Гоголь был в страшном волнении и засыпал письмами своих высокопоставленных друзей, прося помочь скорейшему разрешению «Мёртвых Душ». «Всё задержал Никитенко. Какой несносный человек! Более полутора месяца он держит у себя листки «Копейкина» и хоть бы уведомил меня одним словом, а между тем все листы набраны уже неделю тому назад, и типография стоит, а время это мне слишком дорого. Но Бог с ними со всеми! Вся эта история есть пробный камень на котором я должен испытать, в каком отношении ко мне находятся многие люди. Я пожду ещё два дни, и если не получу от несносного Никитенка, обращусь вновь в здешнюю цензуру, тем более, что она чувствует теперь раскаяние, таким образом поступивши со мною» .
Между тем, уже вовсю благоухала явившаяся в столицу весна, благовествуя и звеня во все свои колокольчики. Из окна Гоголя открывался великолепный вид на Девичье поле, на бело-красные стены Новодевичьего монастыря, на его сияющие купола с устремлёнными в лазоревое небо крестами, вокруг которых вились грачи и вороны… Этим чудным видом можно было любоваться часами. Весна время счастливое. Весною, наконец, завершились хлопоты с цензурой, и «Мёртвые Души» поступили в набор. Теперь можно было уезжать. В Италию. Нужно было завершить начатую гигантскую работу. «Ад» был уже написан. Но впереди были ещё «Чистилище» и «Рай». Ад описать проще. Ад – страсти, гложущие ежечасно человеческую душу. Страстей много в душе, а потому легче переносить их на бумагу. Но как перенести на неё добродетели, коих нет в душе? Нет, написание такого произведения дело не только таланта литературного, фантазии и знаний. То дело души. Духа. Прежде нужно стяжать те добродетели, которые ждёт вывести перо – и в этом самый главный, самый великий труд. Труд христианина, алчущего верно служить Господу. «…пуще всего старайся постигнуть великую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намёк о божественном, небесном рае заключён для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, - во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Всё приноси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без неё не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу…»
Прощание с Москвой, как и в прошлый раз, состоялось в саду Погодина 9-го мая. Шушукались, спорили, подозревали в чём-то, ревновали… «Какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте» … Гоголь слушал кипящие вокруг него разговоры, чувствуя в них всё более разгорающуюся непримиримость к чужому мнению, расслоение общества, путаницу, раздор, распрю… Не то, не то нужно России, русскому обществу, народу… Что проку от этих распрей? Только усиление путаницы и разлада. Только разрушение, а его не должно быть. Нужно не разрушать, а объединять, «ставить и строить». Строить и устраивать. И начинать с души. Настанет порядок в душе – и в жизни порядок будет. А вражда партий лишь умножает беспорядок. Народ должен стать един и крепок духом, каким был в 1812-м и 1612-м годах, и в этом спасение от всевозможных язв. «…так рванётся у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек» . А начитанные умники столичных гостиных, не умеющие найти общего языка между собою – какое просвещение хотят нести они «тёмному» народу, чем хотят питать его душу? Своим расколом и путаницей? Камнем вместо хлеба? Да ведь народ «тёмный» мудрее их, живя в простой своей вере простой жизнью. Нет, нельзя просвещать народ, не просветив вначале себе, иначе не благо, а разрушение внесено будет в народную жизнь… Когда бы примирить всех, когда бы показать, объяснить, достучаться… Но – поймут ли? Услышат ли?
Перед отъездом сообщил всем, что вернётся назад через Иерусалим, где намерен поклониться гробу Господню. Пожимали плечами, молчали, а мысленно махнули рукой: новые чудачества. Не поняли. Не поверили. Заподозрили в позёрстве. И почему так: если человек бессовестно выставляет напоказ тёмные стороны своего естества, так к тому и претензий нет, а попытайся только он поделиться лучшим в своей душе – так уже не верят, смеются, обвиняют в лицемерии. И принужден человек лучших сторон своих стыдиться и прятать от сторонних глаз…
Примирять и объединять – вот, подлинная задача искусства. Этой целью возгорелся Гоголь, взваливая на себя тяжкий подвиг. «Я чувствовал всегда, что я буду участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдётся примиренье многого…» Достучаться до сердец своих соотечественников, указать им спасительный для них и для всей России путь хотелось ему. Борьба со злом продолжалась. И в этой борьбе видел он свой долг перед Богом и людьми. «Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живём, на какого чёрта мы живём?»
Тираж «Мёртвых Души» расходился с огромной скоростью. Поэма вызвала ожесточённые споры: от восхищения до возмущения и обвинений автора в ненависти к России и желании нарочно представить её в чёрном свете, от недовольства общим тоном поэмы и её пошлыми, ничтожными героями до презрительных оценок авторских отступлений, в которых автор «слишком высунулся». От всех знакомых Гоголь требовал критики. «Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно» . «Ради нашей дружбы будьте взыскательны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне побольше недостатков, хотя бы они даже показались вам неважными. (…) Тому, кто стремится быть лучше, чем есть, не стыдно признаться в своих проступках перед всем светом. Без сознанья не может быть исправленья» . Нельзя было приступать к высоким материям, не очистив прежде себя, не подняв себя на должную высоту. «Скажу только, что с каждым днём и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитание души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слёзы и что живёт в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою ещё на нижайших и первых её ступенях. Много труда и пути, и душевного воспитания впереди ещё! Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» …
Уединившись в любимом Риме, Гоголь погрузился в чтение Библии, житий святых, духовной литературы, ища совершенствования своей души для совершения своего грандиозного замысла. Для него, человека, для которого «не писать значило не жить», этот перерыв был тяжёл, но дело никак не двигалось с мёртвой точки. Работа над вторым томом подчас напоминала труд Сизифа: написанные фрагменты безжалостно уничтожались огнём, и всё начиналось заново, с исходной точки. Вдобавок ощутился вдруг и недостаток знаний о России, вызванный долгой разлукой с нею. «В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится и в полвека. (…) Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому» . Он и рад бы был проездиться по городам и весям на птице-тройке, подобно Чичикову, но силы были уже не те, но времени оставалось всё меньше и меньше, и Гоголь умолял своих корреспондентов подробнейшим образом писать ему о России, надеясь в этих письмах расслышать её голос, услышать ответ на свой вопрос…
А Россия ждала продолжения «Мёртвых Душ». Многие удивлялись такому промедлению, поторапливали. «Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьёзно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, - скажут: «Зачем поторопился?»
Поэма не шла, здоровье ухудшалось, но это ничуть не остужало жажду добра и самосовершенствования. Наконец, Гоголь нашёл ту лестницу, о которой слышал в детстве. Лестницу, ведущую на седьмое небо. Лестницы служебные, ступени славы – всё это ничтожно в сравнении с лестницей, ступенями которой возвышается дух, устремлённый к Богу. «Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда ещё телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всём остове тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберёшься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянёшься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь – ничего уже не издаёт душа, кроме одних слёз и благодарения» .
И всё-таки недуги оказались слишком сильны. Гоголь попытался спастись от них проверенным способом: бегством. Но куда было бежать? Из Рима в Париж, из Парижа во Франкфурт… «Я дрожу весь, чувствуя холод беспрерывный и не могу ничем согреться. Не говорю уже о том, что исхудал весь как щепка, чувствую истощение сил и опасаюсь очень, чтобы не умереть прежде путешествия в обетованную землю» . Хуже всего было то, что душу раздирали колебания, а колебания – едва ли не самое невыносимое состояние, самая изощрённая пытка, само по себе способное довести до болезни. Колебания вызывал частично написанный, вымученный насилием воли второй том, колебание вызывал дальнейший маршрут следования. Безумно хотелось вернуться в Россию. Но как? «Стыдно и лицо показать» . Стыдно было вернуться с пустыми руками, нарушить данное обещание. Вернуться с этим стыдом домой было немыслимо. «…и мне все чужие, и я всем чужой» . Ни по одному вопросу невозможно было принять решения. «Ещё бы было возможно это, если б не соединялось с недугами это глупейшее нервическое беспокойство, против которого если понатужишься воздвигнуть дух, то самая эта натура воздвигнуться производит ещё сильнейшее колебание…» Смерть вновь подошла к нему вплотную. На этот раз она не была столь страшна, как прежде, но страшно было оставить потомкам дурной труд, не достойный прочтения и служащий позором своему автору. Второй том «Мёртвых Душ» был сожжён, и вслед затем смерть отступила… «Друг мой, укрепимся духом! Примем всё, что ни посылается нам Богом, и возлюбим всё посылаемое, и как бы ни показалось оно горько, примем за самый сладкий дар от руки его. Злое не посылается Богом, но попускается им для того только, чтобы мы в это время сильней обратились к нему, прижались бы ближе к нему, как дитя к матери при виде испугавшего его предмета…»
И всё же страх смерти, страх не успеть завершить большой труд, побудил Гоголя объясниться с уставшей ждать публикой. «Все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги, под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем; вот что, покаместь, могу сказать; всё прочее объяснит тебе сама книга. (…) Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображению, воспоследует немедленно: книга эта разойдётся более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга» .
В этой книге, дошедшей до читателя в сильно изуродованном цензурой виде, Гоголь первым из русских писателей выступил в качестве публициста, коснувшись практически всех сторон русской жизни, вопросов общественных и духовных. «Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях…» Переписка в книге была использована лишь частично, большинство статей были написаны специально. «Выбранные места…» были, по сути, воззванием к России, ко всему русскому обществу, к каждому русскому сердцу, криком человека, увидевшего надвигающуюся смертельную опасность и пытающегося предупредить тех, кто ещё не узрел её и остановить на пути к пропасти. «Соотечественники! Страшно!.. замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль всё величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих». «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся…» То был глас вопиющего в пустыне, глас, при звуке которого, многие постарались замкнуть слух и воздвигнуть на автора всевозможные обвинения, исторгнутые подчас не здравым рассуждением, а раздражением и злобой. Более всех негодовал Белинский и его единомышленники. Ими выступление Гоголя было воспринято, как измена, и «неистовый Виссарион» не скупился в эпитетах в адрес бывшего кумира, низвергаемого теперь в прах. Славянофилы, включая Аксакова, заподозрили Гоголя в помешательстве, и Сергей Тимофеевич даже предлагал не выпускать книгу в свет. Если Белинского возмутила идеология, то всех прочих менторский тон, тон учителя, которым подчас грешил Гоголь. Этот упрёк в отдельности был справедлив, что признавал и сам Гоголь, говоря, что в своей книге «размахнулся таким Хлестаковым», но за этими, в сущности, шероховатостями, не пожелали увидеть главного и слепо ринулись хулить, не вникнув и не разобрав, оскорблённые в собственной гордости, обличая гордость «самозваного учителя», обвиняя его в безумии. «Поразительно, в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого кона входит в мир, - дорогой ума… Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить противу собственного своего убеждения из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума. (…) Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из-за несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже обазовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений ещё не имевшие – и уже друг друга ненавидящие» …
«Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, чтобы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком...» - написал некогда Гоголь своему дяде из Нежина. Скрытный всю жизнь, он никогда не распахивал своей души так, как в «Переписке». «Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают…» Но соотечественники нашли подобное выказывание любви лицемерием, ханжеством и… безумием. Слухи о сумасшествии Гоголя разошлись по всей России, об этом судачили повсюду, сплетничали, смаковали, придумывали. Даже самые приличные и благородные люди оказались втянуты в эту порочную путаницу, внося в неё свою лепту. Но, однако же, и в хуле, выговоренной сгоряча, можно почерпнуть крупицы истины. Велика наука терпеливо сносить её, велика наука, уча других, оставаться самим учеником и учиться у каждого. «Мы уже так странно устроены, что до тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать всё о себе, так ловит все суждения и так умеет дорожить замечаниями умных людей даже тогда, когда они жестоки и суровы, такой человек не может находиться в полном и совершенном самоослеплении. (…) Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешимость его выводов? Делать замечания – это другое дело; это имеет право делать всякий умный человек, и даже просто всякий человек; но выводить из своих замечаний заключение обо всём человеке – это есть уже некоторого рода самоуверенность…»
Болезненнее нападок было цензурное невежество, много поспособствовавшее превратному пониманию «Переписки», из которой были выброшены самые важные части. «Всё, что для иных людей трудно переносить, я переношу легко с Божьей помощью, и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты» . Поток критики Гоголь принял со смирением. Вглядываясь в себя последнего времени, он понял, что в своей религиозности едва не сделался гордецом, сурово уча всех и утратив прежнюю нежность даже к родным. «Появления книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и наконец ещё сильнейшая оплеуха мне самому. После неё я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение» . Осознав это, Гоголь тотчас переменил тон своих последних писем, принося извинения всем знакомым и родственникам за свою заносчивость за всё, чем, может быть, невзначай обидел их.
Между тем, в обществе разгорелась дискуссия, предметом которой стали многие вопросы, поднятые Гоголем, и это была несомненная заслуга, но далеко не то, чего желал он. Своей книгой Гоголь искал примирить расколотое русское общество, но эффект вышел обратный. Сторонниками «Переписки» выступили немногие. Среди них – князь Вяземский и П.А. Плетнёв, назвавший гоголевскую книгу великой. Большинство же продолжало сердиться. Но каждый отзыв Гоголь ловил с жаром, стараясь лучше понять состояние русского общества и себя самого, пытаясь собрать во всей полноте картину подлинной России, так необходимую для работы над вторым томом «Мёртвых Душ». «Одна из причин печатания моих писем была и та, чтобы поучиться, а не поучить. А так как русского человека до тех пор не заставишь говорить, покуда не рассердишь его и не выведешь совершенно из терпения, то я поставил почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны задрать за живое» . «…Тебя удивляет, зачем я так жаден слышать толки о моей книге. Затем, что я очень жаден знать людей, а в толках о моей книге всё-таки более или менее обрисовывается передо мною человек со всем своим знанием и невежеством и, что всего важнее, открывает мне своё собственное душевное состояние…»
Душевное состояние некоторых вызывало большое огорчение и опасение за них самих. К таким принадлежал, в первую очередь, Белинский, разразившийся гневной статьёй в «Современнике». «…я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключениям. (…) Если в нём кипит желчь, пусть он её выльет против меня в «Современнике», в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит её против меня в сердце своём» . Отвечать разгневанному человеку гневом глупо: это лишь умножит обоюдное раздражение и ничем не поможет. «Русский человек, да ещё и в сердцах!» Лучше выждать, покуда он остынет, а затем попытаться примириться и зарастить, если возможно, возникшую трещину. Вообще, очень неосмотрительно писать или говорить что-либо сгоряча, пребывая в раздражении. Раздражение застит взор и не даёт оценить видимое трезво, а оттого выходят подчас чудовищные перекосы, как, казалось, вышло и в статье Белинского. «Такая логика может присутствовать только в голове рассерженного человека, ищущего только того, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон» .
Но гневные выпады Белинского не были плодом одной лишь горячности, свойственной ему. Это не было даже оскорблённое самолюбие, но гораздо хуже: оскорбление идеи, оскорбление его истины и, наконец, оскорбление его веры в самого Гоголя, как прогрессиста и вождя, оскорбление изменой. На самом деле, никакой измены не было. Гоголь в «Переписке» ничуть не изменил всегдашним основам своего миропонимания, лишь развив их, углубив, слегка пересмотрев отдельные детали. Суть оставалась неизменной. Цель – борьба со злом и служение общей пользе – оставалась прежней. Но в «Переписке» не было художественного вымысла, героев, литературы как таковой, а был один лишь автор, выставивший на всеобщий суд свою душу, была исповедь, и она была принята за измену некому общему делу, которого у Гоголя с Белинским в силу различия взглядов не было и не могло быть. Оно существовало лишь в воображении Белинского, самовольно записавшего Гоголя в ряды «своих», и теперь, увидев в нём «чужого», «врага», он страдал и, страдая, пылал ещё сильнейшим негодованием. Вновь путаница послужила причиной столь острого возмущения.
Белинский ответил Гоголю пространным письмом, выплеснув в нём всю свою обиду и ожесточение. Если в статье пыл критика сдерживала цензура, то в письме, писанном к тому же за границей, он дал себе полную волю, нападая уже не только на Гоголя, но на основу и опору всей его жизни – Бога. Ненависть к Богу, к религии, к Православию в особенности кипела в Белинском. Смертельно больной, на пороге могилы он посылал проклятия Творцу, и это глубоко ужасало Гоголя. Как должен быть несчастен человек, в душе которого горит такое чудовищное пламя ненависти к Тому, кто суть сама Жизнь, как нестерпима должна страдать душа его, испепеляющая себя… Белинский доказывал, что русский народ, о котором он, как будто бы пекясь, высказывался крайне пренебрежительно, антирелигиозен, что нужно как можно скорее упразднить ложь попов и поставить Россию на путь прогресса, научить тёмный народ новой истине и повести его к счастью. И чему же собирался учить народ человек с такой расстроенной, полной ожесточения душой? К какому раю стремился он вести других, нося в собственной душе такой ад? Гоголя Белинский обвинял в незнании России… Откуда бы знал её он сам, проведший век свой в Петербурге и знавший о жизни остальной России по слухам? Обвинял в самоуверенности, а сам не истиной ли в последней инстанции возомнил себя? Горько было читать эти строки. Горько, в особенности, от того, что писал их человек, по натуре, не дурной, способный к высоким порывам, порядочный. Откуда взялась такая ожесточённость? Обо всём этом хотелось сказать Гоголю, ответить на несправедливые обвинения, он составил даже черновик письма, но не отправил его, не дал волю свои чувствам. Белинский был болен, ему оставалось жить совсем недолго, и любое волнение сокращало отпущенный ему жалкий срок и, наконец, могло просто убить его. Об этом забывать было нельзя. «И вы и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно таким же образом, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким ж образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам следует узнать хотя бы часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете. А покамест помыслите о вашем здоровье…»
Шум вокруг «Переписки» при всей его тягости дал толчок к новому витку работы над «Мёртвыми Душами». «Пока не сделаешь дурно, до тех пор не сделаешь хорошо» . «Да книга моя нанесла мне поражение; но на то была воля Божия. Да будет же благословенно имя Того, Кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне не достаёт» . Не доставало России. Не той, что оживала миражом со страниц корреспонденции, а настоящей, живой. Второй том, не вышедший в разлуке с нею, должен был быть окончен вместе с нею, на её земле. Пора было возвращаться на Родину. И этот путь лежал через Иерусалим. Иерусалим – место очищения и воскрешения. Путь туда искупление, сожигание прежней жизни с тем, чтобы воскреснуть к новой и, воскреснув, с обновлённой и просветлённой душой возвратиться в Россию, чтобы завершить, если это угодно Богу, начатый труд… «Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности, на вступленье в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы Его; поблагодарить за всё, что ни случилось в моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготовлял себя» . Но главное, Иерусалим – обретение самой веры. Не той веры, что проверена и доказана разумом, не веры умственной, но пылающей негасимо веры души. Обретение такой веры – великое потрясение всего существа человеческого, открывающее дорогу к новой жизни. В Иерусалиме душа должна обрести слух и услышать, наконец, глас Того, Кто есть Истина, и тогда все глубины откроются прозревшему взору, и явятся силы создать то, что неподвластно рациональному разуму, но лишь душе, святым пламенем возгоревшей. А что если напрасен окажется путь, и душа останется нечувственна?.. Страшно! «Мне кажется, даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить её в себе, изумился глубокому познанию души человеческой… - но веры у меня нет. Хочу верить» .
Отчего это святые места, где должна царить торжественная тишина, где душа один на один может обратиться к Богу, так похожи бывают на вавилонское столпотворение?
Разноплемённая толпа паломников неумолчным ульем гудит со всех сторон, не позволяя услышать священного безмолвия, в котором душа могла бы обрести покой и подняться на горнюю высоту, к седьмому небу… И пусто становится от этого нескончаемого гудения, столь неуместного в таком месте в такой час. «Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!» Тот ли это Иерусалим? Вот, она, Голгофа – вдали синеватые горы и Иордан… Без малого 2000 лет назад по этим камням ступал Спаситель… От сознания этого какое-то неописуемое чувство подступает к сердцу, но не успевает достигнуть его, вновь спугнутое гомоном человеческих голосов. О, если бы вовсе смолкли они, исчезли, и остаться наедине с этой уже померещившейся высотой! Но отвлекает гомон, и не сходит с уст молитвенных напевов… «Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда ещё так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, чёрствость и деревянность» .
Почти вся жизнь уже лежит долгой, петляющей дорогой позади. Вглядеться в начало её: родная Васильевка, сад, необычайно высокое, яркое небо, белые хаты, гнёзда аистов, протяжные украинские песни; Петербург, то сырой и холодный, то нестерпимо душный, но всегда отчего-то чужой, точно троюродный богатый дядюшка, у которого живёшь на правах бедного родственника, Невский проспект, университет, Пушкин, Пушкин, единственный, кто понимал всё, Пушкин, с которым не успел даже проститься; Рим, великолепный, как высшее творение искусства, примиряющий, как оно, второй дом, почти ставший родным, но так и не сумевший заменить отчего… Целая жизнь – на что ушла она? На служение искусству. Искусство – служение Богу. Потому что искусство примиряет, искусство создаёт, строит, но никогда не разрушает. Бог – Творец. Мир - его великое творение, совершенное во всём. Искусство, творчество – Божие дело, и всякий творец должен иметь перед глазами примером, в первую очередь, главного Творца, высшего Творца, и в нём черпать силы и вдохновение. Великая сила и великая ответственность – искусство. Не дай Бог во зло обратить его по злобе или невежеству. «Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства» .
Вся жизнь была принесена на алтарь искусства. Ни для чего больше не осталось её. Ради него отшельничество было предпочтено семейному уюту. Но возможен ли он был? Давным-давно обзавелись семьями все друзья. Даже Жуковский под старость лет женился. А по пути в Иерусалим, в Бейруте Гоголь остановился у старого товарища, теперь генерального консула в Сирии и Палестине К. Базили и его прелестной жены. Как уютен был их дом, сколько тепла в нём царило… Боже, как уютны и покойны бывают семейные вечера! Какой мир и порядок царит в таких домах! Когда добрая и милая хозяйка заботится о семейном очаге, когда играют беззаботные и резвые ребятишки, рядом с которыми чувствуешь себя моложе. С детьми так весело возиться подчас, так успокаивается душа рядом с ними… У всех есть дом, очаг, семейный уют, а Гоголь, дожив почти до сорока лет, не имел ничего. Что за странный жребий быть вечным путником, пилигримом на дороге жизни, не имея нигде приюта, места, где можно преклонить усталую голову, тихой гавани… А ведь мог быть семейный очаг и у него… Или это вздор? Какой могла бы быть его жена? Женщин рядом было много, прекрасных, умных, но разве же он пара им? Они из другого мира, они стоят на других ступенях по своему положению, состоянию… С ними связывают узы сердечной дружбы, но не более. Гоголь-писатель – знаменитость, а Гоголь-человек? Уже немолодой, истерзанный бесконечными недугами, расстроенный нервами, не имеющий гроша за душой – что дал бы он жене, детям? Все эти годы приходилось унизительно вымаливать у всех деньги для того, чтобы как-то содержать себя одного, а если бы ещё семья? Подумать страшно. Нет, нет, есть люди, не созданные для семейного счастья, люди, предназначение которых в другом, и изменять тому негоже, как бы ни был тяжек груз бездомности и бесприютности. «Если вы подумали о каком домашнем очаге, о семейном быте, о женщине, то… вряд ли эта доля для вас! Вы – нищий, и не иметь вам так же угла… как не имел его и тот, которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью! А потому евангелист прав, сказавши, что иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами» . А, может быть, такая категоричность лишь преувеличение, и стоит подумать?.. «Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с её холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьем колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут перед ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить всё печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!»
Путешествие в Иерусалим ничего не оставило в душе, кроме разочарования и огорчения собственной бесчувственностью. Ни искупительных, очистительных слёз, ни воскрешения… Неужели же он из тек, кто не холоден и не горяч, а лишь тёпел? Страшно! «Уже почти не верится, что я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, я говел и приобщался у самого Гроба Святого… Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного…»
Основная часть пути была пройдена. Впереди оставался лишь краткий отрезок длинною в четыре года. Таяла вдали Святая земля, а где-то за туманным пологом уже мерещился родной берег, Россия, манящая, зовущая, ожидающая… Россия, также страдающая от неустройства и вековечной путаницы, от холода и бедности, от творимого зла, которым закопчён уже светлый лик её, от бесчисленных грехов, смердящими и гноящимися язвами покрывающими бессмертную душу. Русь! Птица-тройка, несущаяся неудержимо вперёд, не замечая, что вот-вот отскочит колесо, и перевернётся бричка, выбросив в грязь зарвавшихся седоков… Русь, святая Русь, страждущая под путами грехов, Русь, погибающая и кающаяся, Русь, монастырь наш, где всякому хватит работы во славу Божию… «Она зовёт теперь сынов своих ещё крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздаётся крик её душевной болезни» . Русь, также ждущая и верящая в Воскресение! Воскресения ждёт Русь, и всякая душа христианская ждёт его, и приидет оно! «Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрёт из нашей старины старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесётся звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!»
* * *
Вместо эпилога
Н.В. Гоголь: наследие и наследники
Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а, если умрёт, то принесёт много плода. Евангелие
Наследниками Н.В. Гоголя называют ряд русских писателей, среди которых М.Е. Салтыков-Щедрин, М.А. Булгаков, Андрей Белый, Эрдман и др. Но справедливо ли это? Что понимаем мы под наследием Гоголя, а, значит, и под понятием «наследники»? Только ли литературное направление, или же нечто большее?
Салтыков-Щедрин считается продолжателем дела Гоголя, как писатель-сатирик. Но есть глубочайшая разница между этими двумя писателями, и разница эта в их смехе. В истоках их смеха. В содержании и цели его. Смех Гоголя светел. Это смех, имеющей основою христианскую любовь к ближнему, желание совершенства духовного. Гоголевский смех – смех над пороками, а не над человеком. При этом зачастую, по собственному признанию Николая Васильевича, над пороками собственными. Возлюби ближнего своего – первая заповедь христианства. Ближнего, но ни его пороки, которыми поругаем образ Божий в человеке, которые есть зло и исходят от врага рода человеческого. Гоголь с юности ставил целью своей борьбу со злом. И, в последствие, борьба эта стала не со злом социальным, политическим, но с духовным, внутренним, являющимся первопричиной всех остальных бед. То борьба не с человеком, братом своим, а с бесом, терзающим его душу во имя спасения оной. Смех Гоголя рождён любовью, сочувствием к ближнему, скорбью о нём и желанием помочь ему. Не унижению человека служит он, а обличению порока, не унижению России, в чём обвинял Гоголя Розанов, но выявлению болезней её для лечения их. Болезнь любимого существа не повод разлюбить его, равно как любовь к нему не повод закрывать глаза на болезнь, которая его пожирает, а, стало быть, долг любви, разоблачать болезнь и прилагать все силы, дабы помочь излечению. Именно такой любовью дышит всякое слово Гоголя, обращённое к России, написанное о ней. О своём смехе Николай Васильевич писал: «Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также лёгкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, - но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из неё потому, что на дне её заключён вечно биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. (…) Возмущает душу только то, что мрачно, а смех светел.»
Что же есть смех Щедрина? Кажется, и он обличает пороки, и он остёр и злободневен. Но иная основа у этого смеха, смеха человека, лишившего себя Бога и поставившего себя судиёй и мерилом всему. Это смех не над отдельными частями, но над целым, смех над человеком, над Россией, над её народом, смех жестокий, смех, рождённый злом. В этом смехе нет любви, но одно лишь презрение к мнимой ничтожности других при сознании своего мнимого же превосходства. Если Гоголь сокрушался о грехах ближних, помятуя и ещё более огорчаясь своим, ища собственного очищения и принимая всякую критику, то Щедрин судит их безжалостным судом, отделяя себя от них, не имея ни малейшего сочувствия к ним, с высоты собственной гордыни. Ничего доброго не может увидеть его глаз в России, даже «Могучая кучка» и, в первую очередь Мусоргский, высмеиваются, как нечто бездарное и ничтожное. Гоголь писал, что искусство есть примиренье, но к обратному стремится Щедрин, а оттого смех его разрушителен, это смех без света, смех, несущий лишь мрак и безнадёжность, тогда как даже в самых горьких произведениях Гоголя непременно светится лучик надежды и веры в то, что всё ещё поправимо, что Воскресение настанет. Для Щедрина Воскресения не существует. Искусство, рождённое ожесточением, опасно, но не менее опасна сама ожесточённость для того, кто носит её в своём сердце, позволяя злобе владеть им. Глаза – зеркало души. С этой точки зрения портрет Михаила Евграфовича очень характерен. Весь образ его носит отпечаток того испепеляющего его душу мрака, который царил внутри её. Никогда не вышло из-под пера его строк, исполненных любовью к человеку, к своей земле, своему народу. Неслучайно именно Щедрин стал любимцем русофобствующей части диссидентов 20-го века. В своей книге «Русофобия» Игорь Шафаревич приводит отрывок из статьи А.Д. Синявского об отъезде из «этой страны»: «Я только радовался, глядя на пачки коричневых книжек, что вместе со мной, поджав ушки, уезжает сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин…» Можно ли представить себе на месте Щедрина, Гоголя, глубоко верующего человека, писателя, который призывал любить Россию и сравнивал её с монастырём, в котором долг наш служить Христу, писателя, которому принадлежат такие строки: «Кому при взгляде на эти пустынные, доселе незаселённые и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упрёки ему самому – именно ему самому – тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он не русский в душе»?…
Чаще всего наследником Гоголя называют Булгакова. Таковым он и сам считал себя. В самом деле, существует некая мистическая связь между судьбами этих двух великих писателей. Однажды в тяжёлую минуту, работая над инсценировкой «Мёртвых Душ», Михаил Афанасьевич обратился к Гоголю: «Учитель, учитель, укрой меня своей гранитной шинелью!» Изначально на могиле Гоголя, завещавшего не ставить над собой никаких памятников, неприличиствующих христианину, на Даниловом кладбище стоял простой гранитный камень – Голгофа. Как известно, кладбище это было полностью уничтожено большевиками, мостившими его плитами берега Москвы-реки, а прах Гоголя перенесён на Новодевичье, где на новой могиле установили-таки памятник «От Советского правительства – Гоголю». Так случилось, что в тот день, когда происходила замена надгробия, вдова Булгакова посещала могилу недавно умершего мужа. Надгробия на ней ещё не было установлено, и Елена Сергеевна выкупила гоголевскую «Голгофу», которая и теперь лежит на могиле Булгакова. Учитель укрыл ученика своей гранитной шинелью…
Немало общего у Гоголя и Булгакова в литературном плане. То же тяготение к мистике и фантастичности, тот же юмор, отнюдь не щедринский с его желчностью и злостью, оба создали исторические эпические полотна («Тарас Бульба» и «Белая Гвардия»), оба питали страсть к театру, и оба оставили после себя произведения, над загадкой которых исследователи бьются до сих пор: поэма «Мёртвые Души», замысел которой из-за незавершённости остался не узнан вполне, и роман «Мастер и Маргарита», по сути, тоже поэма, загадочная всею сутью своей. Совпадений очень много, и вряд ли это можно считать просто совпадениями. В литературном плане Булгаков является истинным продолжателем традиций Гоголя. А что же в плане духовном? В конце жизни Гоголь пришёл к глубочайшей вере, в 3-м томе его поэмы должна была предстать воскресшая Русь, Святая Русь, Христова Русь. Весь путь Гоголя – это восхождение к Богу. Булгаков, некогда заявивший о своём отречении от веры, атеистом, по сути, не был никогда, но не был и человеком православным. Если Гоголь перед смертью мечтал писать о Святой Руси, о Христе, то Булгаков пишет роман о дьяволе. Некоторые склонны считать «Мастера и Маргариту» антихристианским произведением, но с этим вряд ли можно согласиться. Эту точку зрения убедительно опровергают многие исследователи. И всё-таки вопрос о духовном мире Булгакова остаётся открытым. Его наследование Гоголю на стезе литературной бесспорно, но в духовном плане сомнительно.
Однако есть у Николая Васильевича и прямой последователь по духовной линии. Тот самый, о котором по прочтении его первой повести Некрасов возвестил Белинскому: «Новый Гоголь появился!» Ф.М. Достоевский.
Гоголь оказал очень сильное влияние уже на творчество молодого Достоевского. «Бедные люди» были продолжением гоголевской темы «маленького человека». Влияние это наблюдается и в дальнейшем. В повести «Двойник» и других юношеских произведениях Фёдора Михайловича проявляется фантастичность, свойственная многим творениям Гоголя. Ряд произведений Достоевского, написанных уже после каторги, отсылают нас уже к гоголевскому гротеску («Дядюшкин сон», «Фома Опискин»…) Любопытно, что в «Опискине» гротеск распространяется уже на самого Гоголя. Как некогда он сам слегка подтрунивал над своим учителем Пушкиным, так теперь его самого вышучивал Достоевский.
Но наиболее сильное уже непосредственно духовное влияние Гоголя видим мы в поздних произведениях Достоевского, которые, в отличие от ранних, по своему литературному почерку как раз сделались уже далеки от гоголевских. Именно в них раскрываются темы, намеченные в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и 2-м томе «Мёртвых Душ». Гоголь успел лишь провести пунктирную линию, бросить семя, и уже это семя дало обильный плод творчестве Достоевского. Если говорить о «Переписке», то Гоголь впервые выступил в ней, как писатель-публицист, став первооткрывателем этого направления, и именно эту традицию продолжил и закрепил Достоевский в своём «Дневнике». Вопросы веры, вопросы судьбы России и её народа, нарастания раскола в русском обществе и его возможные последствия, духовные и общественные язвы нашей жизни, грех, покаяние, искупление и воскресение – вот, темы позднего Гоголя, костяк который гений Достоевского облёк во плоть. «И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь: всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днём неизмеримейшего роста. Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоём мире!» Не об этом ли все главные произведения Достоевского? Но едина вера двух писателей в Россию, в русский народ. «…если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг разом все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванётся у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чём основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспраднуется прежде у нас, чем у других». «И пусть русский народ груб, и безобразен, и грешен, и неграмотен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнётом материализма страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом жесточайшей мучительной смерти», - вторит Достоевский.
А ещё стоит внимательно вчитаться во 2-й том «Мёртвых Душ». Здесь уже не привычный гротесковый Гоголь, здесь уже не смех, но глубокие вопросы и прозрения выступают на передний план. Одно из них – «огорчённые люди». Достоевский, бывший петрашевец, сам был из таких огорчённых людей и вывел целую галерею их в своих романах: от Раскольникова до Ставрогина, от Ивана Карамазова до Крафта… Путаница, вечная всероссийская путаница виной нашим бедам, считал Гоголь. Неслыханная путаница водворяется в городе усилиями «мага»-юристконсульта: «Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие мертвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики,- и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать».; Сравним этот эпизод с отрывком из «Бесов»: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. (…) Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки "передовых", которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что впрочем тоже случается. (…) Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход - я не знаю, да и никто, я думаю, не знает - разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностию своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, - все это вдруг у нас взяло полный верх и над кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступнейшим нашим дамским обществом…» Гоголевский юристконсульт есть предтеча бесов Достоевского. «Подберутся обстоятельства, подберутся. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим: и чиновников нужно больше и жалованья им больше. Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет большой нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно откупиться. Вот уж и хлеб. Первое дело спутать. Так можно спутать, так всё перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое, и губернатора, и виц-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, я кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются. Да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать», - говорит он Чичикову, и как тут не вспомнить Петрушу Верховенского: «Слушайте, мы сначала пустим смуту. Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! (…) Мы провозгласим разрушение… (…) Мы пустим пожары… Мы пустим легенды… Тут каждая шелудивая «кучка» пригодится. (…) Ну-с, и начнётся смута. Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал…» Роман «Бесы» - пророчество о русской смуте. Эту смуту Гоголь почувствовал ещё на самом горизонте, и сквозь туман контуры её уже проступают в «Мёртвых Душах». Гоголь видел зло в расколе русского общества, опасался революции «огорчённых людей», но не верил её возможности, которую суждено было совсем близко увидеть и детально предсказать Достоевскому. Путаница и смута – в этих двух словах, названных великими пророками, источник всех несчастий России, причём последняя всегда является результатом первой.
Всю жизнь создавая гротесковые образы, Гоголь мечтал в 3-м томе своей поэмы описать лучших людей, людей положительно прекрасных. И эту идею возьмётся воплощать Фёдор Михайлович в романе «Идиот», романе о «положительно прекрасном человеке». Идея создания такого образа довлела над обоими писателями. Отчасти Гоголь пытался воплотить её в образах Муразова и Князя, но ему не достало той необходимой психологической глубины и остроты, которая была у Достоевского, и оттого эти персонажи вышли несколько искусственными, чего нельзя сказать о помещике Костанжогло, типе настоящего хозяина, добившегося процветания своей земли и крестьян. К слову именно этому персонажу принадлежит знаменательная фраза: «Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!» В 20-м столетии А.И. Солженицын напишет: «Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через нас!» Если Гоголь в конце жизни грезил описать Воскресение Руси, Христову Русь, то Достоевский мечтал создать роман о Христе. Оба замысла остались неосуществлёнными.
В духовном плане родство двух писателей огромно, но велико различие фундамента, на котором они строили свои произведения. У Гоголя это смех, умение угадать и выпукло выставить характерные черты человеческой натуры, несколькими словами обрисовать всего человека. Достоевский мастер психологического портрета, его фундамент не характерность, не смех, а страсть. В первую очередь, страсть между мужчиной и женщиной. У Гоголя этот конфликт отсутствует вовсе. Женские образы редко встречаются у него («…но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить…»), и все они явно слабее мужских. Любопытно, что в первом произведении Гоголя «Ганц Кюхельгартен» герой сбегает накануне свадьбы, так же поступает и Подколесин в «Женитьбе», боится женитьбы Шпонька, мечтает о семействе, но так и не обзаводится им Чичиков. Гоголь жил отшельником, его женой была его муза, которой одной он служил. Совсем иное дело Достоевский, в жизни которого женщины занимали ключевое место. Полны драматизма его отношения с первой женой. Перед самым венчанием Фёдор Михайлович боялся, что она сбежит из-под венца с другим, либо же этот другой зарежет её. Именно с неё будет списан образ Настасьи Филипповны, и с неё же, в последние годы её жизни, когда она была уже больна чахоткой и полубезумна – несчастная Катерина Ивановна. Вторая возлюбленная Достоевского, А. Суслова станет прототипом героини «Игрока». Достоевскому, может быть, как никому из русских писателей удавались женские образы. В каком-то смысле его, как и его героя Версилова, можно было бы назвать «бабьим пророком»… Такая разница во взаимоотношениях с женским полом, впрочем, не мешала обоим писателям иметь именно в среде женщин наиболее преданных друзей, дружба с которыми отличалась взаимным доверием, и благодарную аудиторию.
Достоевский развил многие идеи Гоголя. Сегодня на Западе Фёдор Михайлович признан главным знатоком русской души, а Николай Васильевич известен значительно меньше. Достоевский блестяще раскрыл все темы, волновавшие позднего Гоголя, до которых так и не суждено было добраться ему самому. Но без Гоголя, вероятно, не было бы того Достоевского, которого мы знаем. Так же как без Пушкина не было бы самого Гоголя. Достоевский назвал Пушкина нашим пророчеством и указанием, и в такой же мере слова эти относятся к Гоголю, и к самому Фёдору Михайловичу, и к другим русским писателям, следующим проложенным ими путём. Никто так глубоко не проник в душу русского человека, как Достоевский, никто до него не ставил с такой силой проклятых русских вопросов, но предтечей его на этом пути был Николай Васильевич Гоголь, и это сам Фёдор Михайлович свидетельствовал об этом, говоря: «Мы все вышли из гоголевской шинели»…
* * *
THE HOLY GOD-SEER MOSES AND THE THEOLOGY OF ICONS
Dr. Vladimir Moss
The life of the holy Prophet and God-Seer Moses, whose feast we celebrate today, is so full of extraordinarily significant words and actions that it is difficult to know where to begin. St. Gregory of Nyssa devoted a whole treatise, The Life of Moses, to expounding the iconic relationship between the life of Moses and the Life of Christ. In this short article we shall touch only on one small, but important aspect of his life: its teaching on the nature of icons.
Now the Holy Church in her service to Moses makes what at first sight looks like an extraordinary claim: that he was the very first "God-seer", who saw God face-to-face: "Let Moses, the first among the prophets, be praised, for he was the first to converse openly with God, face to face, not in indistinct images, but beholding Him as in the guise of the flesh." [1] "Not in indistinct images", and "in the guise of the flesh". So he must have had a clear vision of the God-man, the Lord Jesus Christ, in His Humanity. But how was that possible, seeing that Christ was not yet incarnate? The answer is: only by seeing Him in an image, or icon – but one not made with hands.
And yet, one will argue, was it not precisely to Moses that God emphasized the complete invisibility and unknowability of God? And did He not, in His Ten commandments inscribed on tablets of stone for Moses, forbid the making of images and say: "Thou shalt have no other gods beside Me. Thou shalt not make thyself an idol (ειδωλον), nor likeness (ομοιωμα) of anything, whatever things are in the heaven above, and whatever are in the earth beneath, and whatever are in the waters under the earth. Thou shalt not bow down (προσκυνησεις) to them, nor worship (λατρευσεις) them" (Exodus 20:2-5)? True, but Moses did not make any idols, nor did he bow down to or worship anything created. However, he did see an icon of Christ God in the mystical darkness of Mount Sinai… Moreover, in the same place, as St. Gregory of Nyssa writes, "he sees that tabernacle not made with hands, which he shows to those below by means of a material likeness".[2] So it is not too bold to suggest that it is precisely Moses who lays a beginning to the contemplation of visible icons of God incarnate, and even to the creation of material icons of heavenly things.
But there is more. In this commandment, a distinction is made between veneration (προσκυνησις) and worship (λατρεια) that was to become very important in the iconoclast controversy of the eighth and ninth centuries. Icons are to be venerated, but not worshipped. For an icon of Christ God, though holy and worthy of veneration, is not the same as Christ Himself, although we do truly see Him through the icon.
For an icon, according to St. Stephen the Younger, is a "door" into heaven. A door is not part of a room, but it makes possible access to the room. In the same way an icon of Christ is not Christ Himself, but it facilitates our access to Him. Therefore insofar as, in the words of St. Basil the Great, the honour given to an icon is ascribed to its Prototype, when we bow down and venerate an icon of Christ, we are offering honour and worship to Christ Himself.
As Professor Andrew Louth writes in his discussion of St. John of Damascus’ theology of icons: "According to John, we bow down for various reasons: sometimes we bow down to express honour for things or persons (and John gives various biblical examples of this); sometimes, however, we bow down in worship of God. Veneration, bowing down, proskynesis, is one thing; why we do it another. We can bow down to express honour (time), or to express worship (latreia, the word used in Exodus 20.5: ‘you shall not bow down or worship…’). Idolatry is to worship things created, not simply to honour them. This is the heart of John’s defence of the making and veneration of icons…" [3]
In another passage, Moses was told that He could not see God face-to-face, but had to hide behind a cleft in the rock, from behind which He could see, not His face, but only His back parts. Does this contradict what has just been said? No, it clarifies it; for it explains to us that Moses was able to see God face-to-face, not in the sense that He saw His essence, which is unknowable, but in the sense that He recognized Him in His incarnation, in His visible Humanity. "Sheltered by the stone, thou did not see the face of God, for it was hidden, O God-seer, but didst recognize the incarnation of the Word in His back parts."[4] Or, to be more precise, since Christ was not yet incarnate, Moses saw Him in an icon of His humanity, an icon not made with hands.
The visions of God by the Old Testament Prophets are iconographic visions of the Divine Energies of God, not of His Essence. Thus St. Gregory Palamas, commenting on the Patriarch Jacob's words: "I have seen God face to face [or person to person], and my soul has been saved", writes: "Let [the cacodox] hear that Jacob saw the face of God, and not only was his life not taken away, but as he himself says, it was saved, in spite of the fact that God says: 'None shall see My face and live'. Are there then two Gods, one having His face accessible to the vision of the saints, and the other having His face beyond all vision? Perish the impiety! The face of God which is seen is the Energy and Grace of God condescending to appear to those who are worthy; while the face of God that is never seen, which is beyond all appearance and vision let us call the Nature of God." [5]
Abraham's vision at the oak of Mamre was likewise an iconographic vision of God, not in His Essence, but in His Energies.Thus St. John Chrysostom writes: "How is it that elsewhere Scripture says, ‘No one will see God and live’ (Exodus 33.20)? How, then, would we interpret the words of Scripture, ‘He appeared’? How did He appear to the just man? Surely he didn’t see His true being? No – God forbid. What, then? He was seen in the way He alone knows and in the manner possible for Abram to see. In His inventiveness, you see, our wise and loving Lord, showing considerateness for our human nature, reveals Himself to those who worthily prepare themselves in advance. He explains this through the sacred author in the words, ‘I gave many visions and took shape in the works of the inspired authors’ (Hosea 12.2). Isaiah in his time saw him seated, something that is inapplicable to God, since He doesn’t sit down – how could He, after all, with His unique nature being incorporeal and indefectible? Daniel too saw Him, as the Ancient of Days. Zechariah had a different vision of Him, and Ezekiel in turn a different one. This is the reason, therefore, that He said, ‘I gave many visions’, that is, I appeared in a way suited to each one." [6]
Since Moses and the other Old Testament Prophets truly saw God in visible form, not in His Essence, but in His Energies, in icons not made with hands, the Seventh Ecumenical Council declares: "Eternal be the memory of those who know and accept and believe the visions of the prophets as the Divinity Himself shaped and impressed them, whatever the chorus of the prophets saw and narrated, and who hold to the written and unwritten tradition of the Apostles which was passed on to the Fathers, and on account of this make icons of the Holy things and honour them." And again: "Anathema to those who do not accept the visions of the prophets and who reject the iconographies which have been seen by them (O wonder!) even before the Incarnation of the Word, but either speak empty words about having seen the unattainable and unseen Essence, or on the one hand pay heed to those who have seen these appearances of icons, types and forms of the truth, while on the other hand they cannot bear to have icons made of the Word become man and His sufferings on our behalf." [7]
But this is not the last connection of Moses with the New Testament teaching on icons. At the Transfiguration of Christ on Tabor, he was counted worthy to see the Prototype of the image He had seen on Sinai, not in darkness now, but shining in the Divine Light. Not that there was no Light in the first vision: St. Paul says that Moses’ face was shining with Light as he came down from Sinai, but had to "put a veil over his face, so that the children of Israel could not look steadily at the End of what was passing away. But their minds were blinded… Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away" (II Corinthians 3.13-14, 16).
At the Transfiguration the veil was taken away, and the Lord was seen in all His glory. We Orthodox Christians, unlike the Israelites of the Old Testament, do not have a veil over our hearts; we are not blinded that we should not see the Light. As we chant in the Divine Liturgy after receiving Communion: "We have seen the true Light, we have received the Heavenly Spirit." For having been illumined by the True Faith and Holy Baptism, we are like the Apostles and Prophets on Mount Tabor, Who saw Christ both in the Uncreated Energies of His Divinity and in the created matter of His Humanity. For "we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord" (II Corinthians 3.18).
And that passage from the veiled to the unveiled vision of God, from images and likenesses not made by hands to the Uncreated Archetype Himself, was indicated to us first of all by the holy Prophet and God-seer Moses, of whom the Church chants: "Even after thy death, thou didst see the Lord, O God-seer, and not in dim images as before thou didst in the rock; but thou didst behold Him as Christ in a human body, illumining all with His Divinity." [8]
September 4/17, 2016.
Holy Prophet and God-seer Moses.
* * *
Д Е П О Р Т А Ц И Я
Полёт Орла
Наш рассказ будет о депортации по окончанию Второй мировой войны немцев из стран Восточной Европы. Хотя это была самая массовая депортация XX века, о ней по непонятным причинам в Европе не принято говорить.Исчезнувшие немцы
Карта Европы кроилась и перекраивалась многократно. Проводя новые линии границ, политики менее всего думали о людях, живших на этих землях. После Первой мировой войны у поверженной Германии странами-победительницами были отторгнуты значительные территории, естественно, вместе с населением. 2 миллиона немцев оказались в Польше, 3 миллиона в Чехословакии. Всего вне Германии оказались более 7 миллионов ее бывших граждан.
Многие европейские политики (премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, президент США Вильсон) предупреждали, что такой передел мира несет в себе угрозу новой войны. Они были более чем правы.
Притеснения немцев (действительные и мнимые) в Чехословакии и Польше стали прекрасным поводом к развязыванию Второй мировой бойни. К 1940 году в состав Германии вошли населенные преимущественно немцами Судетская область Чехословакии и польская часть Западной Пруссии с центром в г. Данциг (Гданьск).
После войны оккупированные Германией территории с компактно проживающим на них немецким населением были возвращены прежним владельцам. Решением Потсдамской конференции Польше были дополнительно переданы немецкие земли, на которых проживало еще 2,3 миллиона немцев.
Но не прошло и ста лет, как эти 4 с лишним миллиона польских немцев бесследно растворились. По данным переписи 2002 года из 38,5 млн. польских граждан немцами себя назвали 152 тыс. В Чехословакии до 1937 года проживали 3,3 миллиона немцев, в 2011 году их было в Чехии 52 тыс. Куда же подевались эти миллионы немцев?
Народ как проблема
Проживавшие на территории Чехословакии и Польши немцы отнюдь не были невинными овечками. Девушки встречали солдат вермахта цветами, мужчины выбрасывали руки в нацистском приветствии и кричали «Хайль!». Во время оккупации фольксдойче были опорой немецкой администрации, занимали высокие посты в органах местного самоуправления, принимали участие в карательных акциях, жили в домах и квартирах, конфискованных у евреев. Неудивительно, что местное население их ненавидело.
Правительства освобожденных Польши и Чехословакии обоснованно видели в немецком населении угрозу будущей стабильности своим государствам. Решением проблемы в их понимании было изгнание из страны «чужеродных элементов». Однако для массовой депортации (явления, осужденного на Нюрнбергском процессе) требовалось одобрение великих держав. И такое было получено.
В заключительном Протоколе Берлинской конференции трех великих держав (Потсдамское соглашение) XII пункт предусматривал будущую депортацию немецкого населения из Чехословакии, Польши и Венгрии в Германию. Документ подписали Председатель Совета народных комиссаров СССР Сталин, президент США Трумэн и премьер-министр Великобритании Эттли. Отмашка была дана.
Чехословакия
Немцы были вторым по численности народом в Чехословакии, их было больше чем словаков, каждый четвертый житель Чехословакии был немцем. Большая часть их проживала в Судетах и в пограничных с Австрией районах, где они составляли более 90% населения.
Мстить немцам чехи начали сразу после победы. Немцы должны были: регулярно отмечаться в полиции, они не имели права самовольно сменить место жительства; носить повязку с буквой «N» (немец); посещать магазины только в установленное для них время; у них конфисковались движущие средства: автомобили, мотоциклы, велосипеды; им было запрещено пользование общественным транспортом; запрещено иметь радио и телефоны.
Это неполный список, из неперечисленного хочется упомянуть еще два пункта: немцам запретили говорить в публичных местах по-немецки и ходить по тротуарам! Прочитайте эти пункты еще раз, трудно поверить, что эти «правила» вводились в европейской стране.
Порядки и ограничения в отношении немцев вводились местными властями, и можно было бы рассматривать их как перегибы на местах, списать на глупость отдельных ретивых чиновников, но они были лишь отголоском настроений, царивших на самом верху.
В течение 1945 года чехословацкое правительство, возглавляемое Эдвардом Бенешем, приняло шесть декретов в отношении чешских немцев, лишив их с/х угодий, гражданства и всей собственности. Вместе с немцами под каток репрессий попали венгры, также отнесенные к категории «врагов чешского и словацкого народов». Еще раз напомним, что репрессии проводились по национальному признаку, в отношении всех немцев. Немец? Значит, виновен.
Простым ущемлением немцев в правах не обошлось. По стране прокатилась волна погромов и бессудных расправ, вот только самые известные:
Брюннский марш смерти
29 мая Земский национальный комитет г. Брно (Брюнн – нем.) принял постановление о выселении проживающих в городе немцев: женщин, детей и мужчин возрастом до 16 и старше 60 лет. Это не опечатка, трудоспособные мужчины должны были остаться для ликвидации последствий военных действий (т.е. как дармовая рабсила). Выселяемые имели право взять с собой только то, что могут унести в руках. Депортируемых (около 20 тыс.) гнали в сторону австрийской границы.
У села Погоржелице был организован лагерь, где был проведен «таможенный досмотр», т.е. депортируемых напоследок еще и ограбили. Люди гибли в пути, умирали в лагере. Сегодня немцы говорят о 8 тыс. погибших. Чешская сторона, не отрицая самого факта «Брюннского марша смерти», называет цифру 1690 жертв.
Пршеровский расстрел
В ночь с 18 на 19 июня в г. Пршеров подразделением чехословацкой контрразведки был остановлен поезд с немецкими беженцами. 265 человек (71 мужчина, 120 женщин и 74 ребенка) были расстреляны, имущество их разграблено. Командовавший акцией лейтенант Пазур впоследствии был арестован и осужден.
Устицкая резня
В г. Усти-над-Лабой 31 июля произошел взрыв на одном из военных складов. Погибли 27 человек. По городу пронесся слух, что акция – дело рук «Вервольфа» (немецкого подполья). В городе началась охота на немцев, благо найти их было несложно по обязательной повязке с буквой «N». Схваченных избивали, убивали, сбрасывали с моста в Лабу, добивая в воде выстрелами. Официально сообщалось о 43 жертвах, сегодня чехи говорят о 80-100, немцы настаивают на 220.
Представители союзников высказали недовольство по поводу эскалации насилия в отношении немецкого населения и в августе правительство занялось организацией депортации. 16 августа было достигнуто решение о выселении с территории Чехословакии оставшихся немцев. В министерстве внутренних дел был организован специальный отдел по «переселению», страна была поделена на районы, в каждом из которых был определен ответственный за депортацию.
По всей стране формировали маршевые колонны из немцев. На сборы давали от нескольких часов до нескольких минут. Сотни, тысячи людей, сопровождаемые вооруженным конвоем, шли по дорогам, катя перед собой тележку с пожитками.
К декабрю 1947 года из страны были изгнаны 2 170 тыс. человек. Окончательно в Чехословакии «немецкий вопрос» был закрыт в 1950 году. По различным данным (точных цифр нет), были депортированы от 2,5 до 3 миллионов человек. Страна избавилась от немецкого меньшинства.
Польша
К концу войны на территории Польши проживали свыше 4 млн. немцев. Большая их часть проживала на территориях, переданных Польше в 1945 году, бывших ранее частями немецких областей Саксония, Померания, Бранденбург, Силезия, Западная и Восточная Пруссия. Как и чешские немцы, польские превратились в абсолютно бесправных лиц без гражданства, абсолютно беззащитных перед любым произволом.
Составленная польским Министерством общественной администрации «Памятная записка о правовом положении немцев на территории Польши» предусматривала обязательное ношение немцами отличительных повязок, ограничение свободы передвижения, введение специальных удостоверений личности.
2 мая 1945 года премьер-министр временного правительства Польши Болеслав Берут подписал указ, согласно которому вся брошенная немцами собственность автоматически переходила в руки польского государства. Во вновь приобретенные земли потянулись польские переселенцы. Всю немецкую собственность они рассматривали как «брошенную» и занимали немецкие дома и хутора, выселяя хозяев в конюшни, свинарники, на сеновалы и чердаки. Несогласным быстро напоминали, что они – побежденные, и не имеют никаких прав.
Политика выдавливания немецкого населения давала свои плоды, на запад потянулись колонны беженцев. Немецкое население постепенно замещалось польским. (5 июля 1945 года СССР передал Польше город Штеттин, где проживали 84 тыс. немцев и 3,5 тыс. поляков. К концу 1946 года в городе жили 100 тыс. поляков и 17 тыс. немцев.)
13 сентября 1946 года был подписан декрет об "отделении лиц немецкой национальности от польского народа". Если ранее немцев выдавливали из Польши, создавая им невыносимые условия жизни, то теперь «очистка территории от нежелательных элементов» стала государственной программой.
Однако масштабная депортация немецкого населения из Польши постоянно откладывалась. Дело в том, что еще летом 1945-го для взрослого немецкого населения начали создавать «трудовые лагеря». Интернированные использовались на принудительных работах и Польша долгое время не желала отказываться от дармовой рабочей силы. По воспоминаниям бывших заключенных, условия содержания в этих лагерях были ужасными, процент смертности очень высок. Только в 1949 году Польша решила избавиться от своих немцев, и к началу 50-х вопрос был решен.
Венгрия и Югославия
Венгрия во Второй мировой войне была союзницей Германии. Быть немцем в Венгрии было очень выгодно и все, кто имели на это снования, меняли свою фамилию на немецкую, указывали в анкетах родным языком немецкий. Все эти люди попали под принятый в декабре 1945 года указ "о депортации изменников народа". Их имущество полностью конфисковывалось. По разным оценкам, было депортировано от 500 до 600 тыс. человек.
Изгоняли этнических немцев из Югославии и Румынии. Всего, по данным немецкой общественной организации «Союз изгнанных», объединяющей всех депортированных и их потомков (15 млн. членов), после окончания войны из своих домов были выгнаны, изгнаны от 12 до 14 миллионов немцев. Но даже для тех, кто добрался до фатерланда, кошмар не кончался с пересечением границы.
В Германии
Депортированные из стран Восточной Европы немцы были распределены по всем землям страны. Мало в каком регионе доля репатриантов была менее 20% от численности всего местного населения. В некоторых она достигала 45%. Сегодня попасть в Германию и получить там статус беженца для многих заветная мечта. Беженец получает пособие и крышу над головой.
В конце 40-х XX века все было не так. Страна была разорена и разрушена. Города лежали в развалинах. В стране не было работы, негде было жить, не было лекарств и нечего было есть. Кто были эти беженцы? Здоровые мужчины погибли на фронтах, а те, кому повезло уцелеть, находились в лагерях военнопленных. Пришли женщины, старики, дети, инвалиды. Все они оказались предоставлены сами себе и каждый выживал как мог. Многие, не видя для себя перспектив, кончали жизнь самоубийством. Те, кто смог выжить, запомнили этот ужас навсегда.
«Особенная» депортация
По данным председателя «Союза изгнанных» Эрики Штайнбах, депортация немецкого населения из стран Восточной Европы обошлась германскому народу в 2 миллиона жизней. Это была самая масштабная и самая страшная депортация XX века. Однако в самой Германии официальные власти о ней предпочитают не вспоминать. В перечне депортированных народов крымские татары, народы Кавказа и Прибалтики, поволжские немцы.
Однако о трагедии более 10 миллионов немцев, депортированных после Второй мировой войны, молчат. Неоднократные попытки «Союза изгнанных» создать музей и памятник жертвам депортации постоянно наталкиваются на противодействие властей.
Что же касается Польши и Чехии, то эти страны до сих пор свои действия незаконными не считают и не собираются приносить какие-либо извинения и каяться. Европейская депортация преступлением не считается.
Источник: "Тайны и загадки" № 9/2016
Источник: http://www.chitalnya.ru/blogs/17926/
© Chitalnya.ru
* * *
Российские немцы хотят вернуться из Германии в Крым
Около 400 семей российских немцев, ранее переехавших на жительство в Германию, намерены вернуться в Крым, сообщил глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
«На сегодня у нас 1500 обращений от немецких семей. Из них 400 обращений от российских немцев, ранее переехавших на постоянное место жительства в Германию.
Практически не проходит недели в последнее время, чтобы не приезжала семья из Германии», — сказал Гемпель на заседании круглого стола в Симферополе.
По его словам, свое возвращение в Крым они аргументируют «нежеланием мириться с разрушением на Западе семейных и христианских ценностей».
Гемпель подчеркнул, что в Крым хотят вернуться российские немцы и их потомки, депортированные при Сталине и проживающие сейчас в странах СНГ, Германии.
Для вернувшихся российских немцев, при наличии средств в федеральной целевой программе по развитию Крыма до 2020 года, планируется построить поселок компактного проживания в районе села Кольчугино под Симферополем, историческое название которого — Кроненталь.
«На наш взгляд, 168 семей могли бы претендовать на государственно-правовую поддержку при возращении и обустройстве здесь в Крыму», — подчеркнул Гемпель.
ВСЮДУ ХОРОШО А В РОССИИ ЛУЧШЕ!
* * *
SHAKESPEARE AND ORTHODOX CHRISTIANITYDr. Vladimir Moss
The title of this article may seem paradoxical. Shakespeare was not, of course, an Orthodox Christian; nor, as far as we know, did he ever meet an Orthodox Christian or read an Orthodox book except for the Bible (which he clearly knew well). So however transcendent his genius, and however vast his influence, we cannot take him as a teacher of Orthodoxy. Nevertheless, it has been recognized by generations of good judges that many great and important truths have been expressed by him with incomparable beauty, depth and power. So insofar as it good to honour truth mixed with beauty wherever it comes from, it will be good to pay our debt of honour to the great Bard – especially on this, the 500th anniversary of his death.
By the time Shakespeare reached his peak as a writer, England had undergone over sixty years of profound change – the transition, in essence, from the medieval to the modern world-view. But the transition was incomplete; people were confused; and in William Shakespeare there arose the perfect recorder of this critical turning-point in his country’s and Europe’s history. For, as Jonathan Bate writes, "his mind and world were poised between Catholicism and Protestantism, old feudal ways and new bourgeois ambitions, rational thinking and visceral instinct, faith and scepticism."
The transition from Catholicism to Protestantism profoundly influenced his work. For "he lived between the two great cataclysms in English history: the break from the universal Roman Catholic church and the execution of King Charles I." The transition caused Shakespeare, like many of his fellow countrymen, to question the basis of their beliefs; and the very literary form of his plays was made possible by it.
"For centuries, the staple of English drama had been the cycles of ‘miracle’ plays, dramatizations of biblical stories organized by the gilds of tradesmen in the major towns and cities around the country. They were destroyed by the Protestant Reformation… By the time he began writing plays himself, the old religious drama was dead and buried…
"… The old religious drama had offered to audiences a constant reminder that that they were under the watchful eye of God. The new Elizabethan drama concentrated instead on people in relationship with each other and with society." It was a momentous change in the culture of Western Europe; and in this change Shakespeare both imitated life and influenced it.
Thus in Hamlet (1600), perhaps the most famous literary work in history, Shakespeare found a new technique – the device of the soliloquy – to express the interior conflicts and confusions, not only of his hero, but of the new, secularized humanity that was coming into existence.
"With Hamlet," writes James Shapiro, "a play poised midway between a religious past and a secular future, Shakespeare finally found a dramatically compelling way to internalize contesting forces: the essay-like soliloquy proved to be the perfect vehicle for Hamlet’s efforts to confront issues that, like Brutus’, defied easy resolution. And he further complicated Hamlet’s struggle by placing it in a large world of unresolved post-Reformation social, religious and political conflicts, which is why the play is so often taken as the ultimate expression of its age…
"… The soliloquies restlessly return to these conflicts, which climax in ‘To be or not to be’: in a world that feels so ‘weary, stale, flat, and unprofitable’, is it better to live or die? And is the fear of what awaits him in the next world enough to offset the urge to commit suicide? Is the Ghost come from Purgatory to warn him or should he see this visitation in a Protestant light (for Protestants didn’t believe in Purgatory), as a devil who will exploit his melancholy and who ‘Abuses me to damn me’ (II, ii, 603). Is revenge a human or a divine prerogative? Is it right to kill Claudius at his prayers, even if this means sending his shriven soul to heaven? When, if ever, is killing a tyrant justified – and does the failure to do so invite damnation?"
*
It was this last, political question that especially exercised Shakespeare, as it did his countrymen at this time, that is, the first decade of the seventeenth century. Of course, he had touched upon the question of the nature of political authority, its rights and limitations in several plays of the previous decade, when he had been able, with his usual skill, to present both sides of the argument in a convincing manner – and without betraying his own convictions too obviously.
Henry V and Richard II are especially interesting for Orthodox readers because of their profound exploration of the nature of sacred kingship, its responsibility before God and man. The parallels with the life of Tsar-Martyr Nicholas, who like Richard, was forced to abdicate from his throne, are numerous, as in Not all the water in the rough rude sea Can wash the balm from an anointed King.
As for Julius Caesar, it is probably the profoundest study of the morality of revolution and revolutionaries in the English language.
Hamlet and Troilus and Cressida continue the themes of loyalty and betrayal, both political and personal, that are so central to the whole of Shakespeare’s oeuvre. We may suppose that Shakespeare was fairly conservative, even monarchist in his political views. Thus in Troilus and Cressida we find the famous speech on "degree", i.e. hierarchy:
Take but degree away, untune that string,
And, hark, what discord follows! Each thing melts
In mere oppugnancy: the bounded waters
Should lift their bosoms higher than the shores,
And make a sop of all this solid globe;
Strength should be lord of imbecility,
And the rude son should strike his father dead;
Force should be right; or, rather, right and wrong –
Between whose endless jar justice resides –
Should lose their names, and so should justice too.
Nevertheless, we may suppose that he also felt the tug of revolutionary tendencies and to some extent sympathized with them. Thus there is real passion in Hamlet’s attempt to cast the light of truth on the evil deeds of the false King Claudius in the "play within the play" scene:Ophelia. The King rises.
Hamlet. What, frighted with false fire!
Queen. How fares my lord?
Polonius. Give o'er the play.
King. Give me some light. Away!
Polonius. Lights, lights, lights!
But this was dangerous territory in Jacobean England, where the monarchy so jealously guarded its privileges. In any case, even if he sympathized to some extent with the rebels against the monarchists, Shakespeare was perfectly well aware where revolution ended – in hell, where the ghost of his father came from. Thus Hamlet exposes the false king - but at the same time destroys both himself and all those whom he loves.
Up to this point, in spite of the political content of his plays, Shakespeare had managed, unlike several of his dramatist colleagues, to escape censorship (carried out in that age by bishops) and stay out of prison. But the Gunpowder Plot of November, 1605, when a Catholic conspiracy to blow up the Houses of Parliament had been foiled by the authorities, raised the political temperature in the country, inducing spy-mania, paranoia and suspicions of treason to an unparalleled degree. Shakespeare had the choice: to play safe and not allude to recent events or the controversies surrounding them, or to follow Hamlet’s own advice to dramatists and "hold the mirror up to nature" and give "the very age and body of the time his form and pressure". He chose the latter, riskier course, and the result was one of his greatest plays, Macbeth.
Macbeth was performed at court in front of King James sometime in 1606. James, like his predecessor Elizabeth, believed in "degree", hierarchy and the order of being, and considered that "equality is the mother of confusion and an enemy of the Unity which is the Mother of Order". At the same time he acknowledged that there is an important distinction between an autocrat, who "acknowledges himself ordained for his people", and a tyrant, who "thinks his people ordained for him, a prey to his passions and inordinate appetites." Although a king was "a little God to sit on this throne and rule over other men", he nevertheless had to provide a good example to his subjects. But while not free in relation to God, the king was free in relation to his subjects. Hence the title of James’ book, The True Law of Free Monarchies.
As Jonathan Bate writes, Macbeth "is steeped in King James’s preoccupations: the rights of royal succession, the relationship between England and Scotland [James was the son of Mary Queen of Scots, who had been murdered by his predecessor, Queen Elizabeth of England], witchcraft, the sacred powers of the monarch, anxiety about gunpowder, treason and plot. A deeply learned man, the king had published a treatise explaining how monarchs were God’s regents upon the earth and another arguing for the reality of witchcraft or ‘demonology’. He considered himself something of an adept at distinguishing between true and false accusations of witchcraft. He took a deep interest in such customs as the tradition of the sacred power of the king’s ‘touch’ to cure subjects afflicted with the disease of scrofula (known as ‘the king’s evil’).
"Religion and politics were joined seamlessly together. The Bible said that rebellion is as the sin of witchcraft: if the monarch was God’s representative upon earth, then to conspire against him was to make a pact with the instrument of darkness – in the Gunpowder trials, Jesuits such as Father Garnet were described as male witches. Treason was regarded as more than a political act: it was, as one modern scholar puts it, ‘a form of possession, an action contrary to and destructive of the very order of nature itself. The forces of the netherworld seek for their own uncreating purposes the killing of the legitimate king in order to restore the realm of tyranny and chaos.’
"In this world, killing the king is the ultimate crime against nature. ‘O horror, horror, horror’, says Macduff as he returns on stage having stared into the heart of darkness, seen how the gashed stabs on the king’s body look like a breach in nature. ‘Tongue nor heart cannot conceive nor name thee’: the language here alludes to the famous passage in St. Paul about the inexpressible wonders that God has prepared in the kingdom of heaven for those who love Him. Macduff, by contrast, has momentarily entered the kingdom of hell, where a drunken porter keeps the gate. ‘Confusion’ now hath replication of the order of divine creation. But the art here is that of confusion and death: ‘Most sacrilegious murder hath broke ope / The Lord’s anointed temple and stole thence / The life o’ th’ building.’ The understanding of the play requires close attention to be paid to such words as ‘sacrilegious’, in which political violence is bound inextricably to articles of religious faith. ‘Treason has done his worst,’ says Macbeth in one of those moments when his conscience is pricked. His worst, not its: Treason is not a concept but a living thing. The devil’s disciple, he stalks the stage of politics and brings sleepless nights through which the guilty man shakes and sweats with fear and terrible dreams, while the guilty woman descends into insanity…"
But while great art can mirror great tensions, it cannot disperse them: from this time English society became increasingly polarized. The unity obtained between Catholics and Protestants, loyalists and revolutionaries, through the cult of the Virgin Queen Elizabeth had been largely a clever theatrical stunt, but it had worked. James I, however, had a more difficult time of it, having to unify not only Catholics and Protestants, but also English and Scots. On the one hand, he had to keep his Catholic-at-heart English subjects, the "recusants", in line by spying on them, chasing up secret Jesuits and compelling all Englishmen to swear the Oath of Allegiance and receive communion in the Anglican church at least three times a year. On the other hand, as a Scot, he had to persuade his radical Protestant fellow-countrymen north of the border that he had not only a Divine right to rule, but could play a part in the life of the official church and even appoint bishops: as he famously put it, "no king, no bishop".
James’ plan to unite England and Scotland into one country failed; but the superb language of his other beloved project, the King James version of the Bible, translated by a committee of Anglicans and moderate Puritans, has had a profoundly unifying effect on the English-speaking peoples to this day. Nevertheless, there was no unity taking place within the political nation as the seventeenth century progressed: the Stuart kings increasingly gravitated towards the "right", while their subjects on the whole became more "leftist". An early sign of the latter’s increasing power was the ban placed by Puritan censors on any reference to God or Christ in the theatre, which meant that the word "God" appears no longer in Shakespeare from Antony and Cleopatra onwards. Shakespeare took the hint and "retired" a few years later – he was not alive to witness the final closing down of the theatre by the Puritans in 1642. And so the scene was set for the English revolution - "that grand crisis of morals, religion and government", as Coleridge called it , or "the first major breech in Absolute Monarchy and the spawning of the first major, secular, egalitarian and liberal culture in the modern world".
*
Great tensions produce great art: 1606, the year after the Gunpowder Plot produced, besides Macbeth, also King Lear and Antony and Cleopatra, a trilogy unequalled in the history of literature with the possible exception of Dostoyevsky’s trilogy of The Idiot, The Devils and The Brothers Karamazov.
King Lear is Shakespeare’s Great Friday allegory, and the imagery reflects the theme: Lear is racked on a wheel, wood and crosses and blood abound. But the real victim is Lear’s Christlike daughter Cordelia. The scene of her sacrificial, all-forgiving death, and Lear’s conversion and repentance in and through it is perhaps the most unbearably poignant in English literature.
Macbeth is Shakespeare’s allegory of the Descent into hell. Everything is darkness, demons, madness and despair. Macbeth’s final semi-atheistic despair is ferocious in the cold, cruel clarity of its vision, as even the rhythm of the verse slows down to echo the everlastingness of his damnation:
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing…
As for Antony and Cleopatra, its imagery is full of light and fire, as befits an allegory of the Resurrection. For this play is much more than a love story. It is also a story about how a fallen woman sheds her corrupt past and rises incorruptible in a kind of literary Resurrection of the body, her illicit lover Antony becoming after is death an honourable husband in her imagination, even a type of Christ the Bridegroom:
Give me my robe, put on my crown; I have Immortal longings in me…
Husband, I come.
Now to that name my courage prove my title!
I am fire and air; my other elements
I give to baser life.
Of course, we cannot know whether Shakespeare consciously considered his three greatest dramas to be an allegory of the central mysteries of the Christian faith. But the greatness of a writer does not reside in his consciousness of the depth of his art. The test is whether he makes us respond deeply – and by that criterion Shakespeare was a supremely Christian writer.
*
Shakespeare can be bawdy; but there is always a profound seriousness underlying even the comedies. He makes little spiritual epigrams which clearly point to a man who has thought about life from a definitely religious viewpoint. Thus in his very earliest extant work, Venus and Adonis, we see his Christian morality clearly expressed:Love surfeits not: Lust like a glutton dies.
Love is all truth: Lust full of forged lies.
A deeper meditation on the same theme is found in the incomparable Sonnet 129:
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O, no! it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand’ring bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error, and upon me prov’d.
I never writ, nor no man ever lov’d.
The spiritual struggle between good and evil, angels and demons, is well known to Shakespeare. Thus in Sonnet 144, we read:
Again, in the midst of the great drama of Antony and Cleopatra we are told that our prayers are not always answered because it would not be good for us:Two loves I have, of comfort and despair,
Which like two angels do suggest me still;
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour'd ill.
To win me soon to hell, my female evil
Tempteth my better angel from my side,
And would corrupt my saint to be a devil,
Wooing his purity with her foul pride.
And whether that my angel be turn'd fiend,
Suspect I may, yet not directly tell;
But being both from me, both to each friend,
I guess one angel in another's hell.
Yet this shall I ne'er know, but live in doubt,
Till my bad angel fire my good one out.
We, ignorant of ourselves,
Beg often our own harms, which the wise powers
Deny us for our good; so find we profit
By losing of our prayers.
Again, in Richard II we are exhorted to humility as follows:
Shakespeare mocked and undermined the medieval concept of chivalric "honour" and military glory, as in Henry IV, part 1:whate'er I be,
Nor I, nor any man that but man is,
With nothing shall be pleased till he be eas'd
With being nothing.
And in Hamlet we see a heartfelt desire for passionlessness:
Give me that man
That is not passion's slave, and I will wear him
In my heart's core, ay, in my heart of heart.
Even the foolish Polonius is allowed a wise aphorism:
To thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
By heaven, methinks it were an easy leap
To pluck bright honor from the pale-fac'd moon . . .
He did the same in Hamlet:
Rightly to be great
Is not to stir without great argument,
But greatly to find quarrel in a straw
When honor’s at stake…
Witness this army, of such mass and charge,
Led by a delicate and tender prince;
Whose spirit, with divine ambition puff'd,
Makes mouths at the invisible event;
Exposing what is mortal, and unsure,
To all that fortune, death, and danger dare,
Even for an egg-shell.
Again, there is no sharper exposure of the hypocrisy of Christian Pharisaism than we find in Measure for Measure, which contains this biting but profoundly theological observation:
But man, proud man,
Dress'd in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assur'd—
His glassy essence—like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven
As makes the angels weep; who, with our spleens,
Would all themselves laugh mortal.
Similar in its imagery, but still more powerful, and hardly less theological, is this passage from Macbeth:
Besides, this Duncan
Hath borne his faculties so meek, hath been
So clear in his great office, that his virtues
Will plead like angels, trumpet-tongued against
The deep damnation of his taking-off,
And pity, like a naked new-born babe,
Striding the blast, or heaven’s cherubin, horsed
Upon the sightless couriers of the air,
Shall blow the horrid deed in every eye
That tears shall drown the wind.
Again, what profounder exposure of the hypocrisy of Christian anti-semitism can we find than in Shylock’s speech in The Merchant of Venice:I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions; fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us do we not bleed? If you tickle us do we not laugh? If you poison us do we not die? And if you wrong us shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why, revenge. The villainy you teach me I will execute, and it shall go hard but I will better the instruction.
At the same time, Shylock’s greed and vengefulness is not spared, and mercy, the crown of Christian virtues, is portrayed with consummate grace:
However, we cannot leave the theme of Shakespeare and Christianity without considering the last work of his creative life, The Tempest. Like Beethoven who saved his greatest and most religious work to the end of his life, when he could no longer even hear, so Shakespeare left his most religious work to the end, when he was not even allowed to mention God in his plays. For just as The Winter’s Tale is another – but much more explicit – allegory of the Resurrection, so The Tempest is an allegory of the end of the world.The quality of mercy is not strain'd,
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath: it is twice blest;
It blesseth him that gives and him that takes:
'Tis mightiest in the mightiest: it becomes
The throned monarch better than his crown;
His sceptre shows the force of temporal power,
The attribute to awe and majesty,
Wherein doth sit the dread and fear of kings;
But mercy is above this sceptred sway;
It is enthroned in the hearts of kings,
It is an attribute to God himself;
And earthly power doth then show likest God's
When mercy seasons justice. Therefore, Jew,
Though justice be thy plea, consider this,
That, in the course of justice, none of us
Should see salvation: we do pray for mercy;
And that same prayer doth teach us all to render
The deeds of mercy.
The main character of the play, who controls the whole action, is Prospero. He is a sorcerer, which is, of course, an evil occupation for a Christian. And yet if we judge by the fruits of his actions, he is more like God Himself than a servant of demons. And when he has finally brought everything to a happy conclusion through a truly divine providence, reuniting lovers, correcting injustice and putting evil spirits in their place, he renounces everything:
I have bedimm'd
The noontide sun, call'd forth the mutinous winds,
And 'twixt the green sea and the azured vault
Set roaring war: to the dread rattling thunder
Have I given fire and rifted Jove's stout oak
With his own bolt; the strong-based promontory
Have I made shake and by the spurs pluck'd up
The pine and cedar: graves at my command
Have waked their sleepers, oped, and let 'em forth
By my so potent art. But this rough magic
I here abjure, and, when I have required
Some heavenly music, which even now I do,
To work mine end upon their senses that
This airy charm is for, I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my book.
Like Prospero, Shakespeare now renounces his "so potent art". For he does not over-estimate the reality or value of his creations. Only God is truly creative; and so in true humility he hands back the gift he received to the true Creator Who gave it him. But he goes further. Not only will his art now come to an end, but the theatre itself and the whole of present-day reality outside the theatre will come to an end. The whole of this solid globe will disappear (Shakespeare’s theatre was called the Globe, but the globe in the sense of the whole world is also meant), and in retrospect will seem like mere stagecraft and stage-props and play-acting in comparison with the incomparably greater and more substantial new creation on the other side of the "sleep" that is death. Indeed, compared to what God has in store for us in the next life, our present temporal life is but an "insubstantial pageant", a dream:
It remains only for Shakespeare, a conscious Christian to the end, to ask forgiveness of his readers and spectators if his "rough magic" has caused anyone any harm:Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air:
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.
Now I want
Spirits to enforce, art to enchant,
And my ending is despair,
Unless I be relieved by prayer,
Which pierces so that it assaults
Mercy itself and frees all faults.
As you from crimes would pardon'd be,
Let your indulgence set me free.
August 10/23, 2016.
* *
The title of this article may seem paradoxical. Shakespeare was not, of course, an Orthodox Christian; nor, as far as we know, did he ever meet an Orthodox Christian or read an Orthodox book except for the Bible (which he clearly knew well). So however transcendent his genius, and however vast his influence, we cannot take him as a teacher of Orthodoxy. Nevertheless, it has been recognized by generations of good judges that many great and important truths have been expressed by him with incomparable beauty, depth and power. So insofar as it good to honour truth mixed with beauty wherever it comes from, it will be good to pay our debt of honour to the great Bard – especially on this, the 500th anniversary of his death.By the time Shakespeare reached his peak as a writer, England had undergone over sixty years of profound change – the transition, in essence, from the medieval to the modern world-view. But the transition was incomplete; people were confused; and in William Shakespeare there arose the perfect recorder of this critical turning-point in his country’s and Europe’s history. For, as Jonathan Bate writes, "his mind and world were poised between Catholicism and Protestantism, old feudal ways and new bourgeois ambitions, rational thinking and visceral instinct, faith and scepticism."
The transition from Catholicism to Protestantism profoundly influenced his work. For "he lived between the two great cataclysms in English history: the break from the universal Roman Catholic church and the execution of King Charles I." The transition caused Shakespeare, like many of his fellow countrymen, to question the basis of their beliefs; and the very literary form of his plays was made possible by it.
"For centuries, the staple of English drama had been the cycles of ‘miracle’ plays, dramatizations of biblical stories organized by the gilds of tradesmen in the major towns and cities around the country. They were destroyed by the Protestant Reformation… By the time he began writing plays himself, the old religious drama was dead and buried…
"… The old religious drama had offered to audiences a constant reminder that that they were under the watchful eye of God. The new Elizabethan drama concentrated instead on people in relationship with each other and with society." It was a momentous change in the culture of Western Europe; and in this change Shakespeare both imitated life and influenced it.
Thus in Hamlet (1600), perhaps the most famous literary work in history, Shakespeare found a new technique – the device of the soliloquy – to express the interior conflicts and confusions, not only of his hero, but of the new, secularized humanity that was coming into existence.
"With Hamlet," writes James Shapiro, "a play poised midway between a religious past and a secular future, Shakespeare finally found a dramatically compelling way to internalize contesting forces: the essay-like soliloquy proved to be the perfect vehicle for Hamlet’s efforts to confront issues that, like Brutus’, defied easy resolution. And he further complicated Hamlet’s struggle by placing it in a large world of unresolved post-Reformation social, religious and political conflicts, which is why the play is so often taken as the ultimate expression of its age…
"… The soliloquies restlessly return to these conflicts, which climax in ‘To be or not to be’: in a world that feels so ‘weary, stale, flat, and unprofitable’, is it better to live or die? And is the fear of what awaits him in the next world enough to offset the urge to commit suicide? Is the Ghost come from Purgatory to warn him or should he see this visitation in a Protestant light (for Protestants didn’t believe in Purgatory), as a devil who will exploit his melancholy and who ‘Abuses me to damn me’ (II, ii, 603). Is revenge a human or a divine prerogative? Is it right to kill Claudius at his prayers, even if this means sending his shriven soul to heaven? When, if ever, is killing a tyrant justified – and does the failure to do so invite damnation?"
*
It was this last, political question that especially exercised Shakespeare, as it did his countrymen at this time, that is, the first decade of the seventeenth century. Of course, he had touched upon the question of the nature of political authority, its rights and limitations in several plays of the previous decade, when he had been able, with his usual skill, to present both sides of the argument in a convincing manner – and without betraying his own convictions too obviously.
Henry V and Richard II are especially interesting for Orthodox readers because of their profound exploration of the nature of sacred kingship, its responsibility before God and man. The parallels with the life of Tsar-Martyr Nicholas, who like Richard, was forced to abdicate from his throne, are numerous, as in
As for Julius Caesar, it is probably the profoundest study of the morality of revolution and revolutionaries in the English language.Not all the water in the rough rude sea
Can wash the balm from an anointed King.
Hamlet and Troilus and Cressida continue the themes of loyalty and betrayal, both political and personal, that are so central to the whole of Shakespeare’s oeuvre. We may suppose that Shakespeare was fairly conservative, even monarchist in his political views. Thus in Troilus and Cressida we find the famous speech on "degree", i.e. hierarchy:
Take but degree away, untune that string,
And, hark, what discord follows! Each thing melts
In mere oppugnancy: the bounded waters
Should lift their bosoms higher than the shores,
And make a sop of all this solid globe;
Strength should be lord of imbecility,
And the rude son should strike his father dead;
Force should be right; or, rather, right and wrong –
Between whose endless jar justice resides –
Should lose their names, and so should justice too.
Nevertheless, we may suppose that he also felt the tug of revolutionary tendencies and to some extent sympathized with them. Thus there is real passion in Hamlet’s attempt to cast the light of truth on the evil deeds of the false King Claudius in the "play within the play" scene:
Ophelia. The King rises.
Hamlet. What, frighted with false fire!
Queen. How fares my lord?
Polonius. Give o'er the play.
King. Give me some light. Away!
Polonius. Lights, lights, lights!
But this was dangerous territory in Jacobean England, where the monarchy so jealously guarded its privileges. In any case, even if he sympathized to some extent with the rebels against the monarchists, Shakespeare was perfectly well aware where revolution ended – in hell, where the ghost of his father came from. Thus Hamlet exposes the false king - but at the same time destroys both himself and all those whom he loves.Up to this point, in spite of the political content of his plays, Shakespeare had managed, unlike several of his dramatist colleagues, to escape censorship (carried out in that age by bishops) and stay out of prison. But the Gunpowder Plot of November, 1605, when a Catholic conspiracy to blow up the Houses of Parliament had been foiled by the authorities, raised the political temperature in the country, inducing spy-mania, paranoia and suspicions of treason to an unparalleled degree. Shakespeare had the choice: to play safe and not allude to recent events or the controversies surrounding them, or to follow Hamlet’s own advice to dramatists and "hold the mirror up to nature" and give "the very age and body of the time his form and pressure". He chose the latter, riskier course, and the result was one of his greatest plays, Macbeth.
Macbeth was performed at court in front of King James sometime in 1606. James, like his predecessor Elizabeth, believed in "degree", hierarchy and the order of being, and considered that "equality is the mother of confusion and an enemy of the Unity which is the Mother of Order". At the same time he acknowledged that there is an important distinction between an autocrat, who "acknowledges himself ordained for his people", and a tyrant, who "thinks his people ordained for him, a prey to his passions and inordinate appetites." Although a king was "a little God to sit on this throne and rule over other men", he nevertheless had to provide a good example to his subjects. But while not free in relation to God, the king was free in relation to his subjects. Hence the title of James’ book, The True Law of Free Monarchies.
As Jonathan Bate writes, Macbeth "is steeped in King James’s preoccupations: the rights of royal succession, the relationship between England and Scotland [James was the son of Mary Queen of Scots, who had been murdered by his predecessor, Queen Elizabeth of England], witchcraft, the sacred powers of the monarch, anxiety about gunpowder, treason and plot. A deeply learned man, the king had published a treatise explaining how monarchs were God’s regents upon the earth and another arguing for the reality of witchcraft or ‘demonology’. He considered himself something of an adept at distinguishing between true and false accusations of witchcraft. He took a deep interest in such customs as the tradition of the sacred power of the king’s ‘touch’ to cure subjects afflicted with the disease of scrofula (known as ‘the king’s evil’).
"Religion and politics were joined seamlessly together. The Bible said that rebellion is as the sin of witchcraft: if the monarch was God’s representative upon earth, then to conspire against him was to make a pact with the instrument of darkness – in the Gunpowder trials, Jesuits such as Father Garnet were described as male witches. Treason was regarded as more than a political act: it was, as one modern scholar puts it, ‘a form of possession, an action contrary to and destructive of the very order of nature itself. The forces of the netherworld seek for their own uncreating purposes the killing of the legitimate king in order to restore the realm of tyranny and chaos.’
"In this world, killing the king is the ultimate crime against nature. ‘O horror, horror, horror’, says Macduff as he returns on stage having stared into the heart of darkness, seen how the gashed stabs on the king’s body look like a breach in nature. ‘Tongue nor heart cannot conceive nor name thee’: the language here alludes to the famous passage in St. Paul about the inexpressible wonders that God has prepared in the kingdom of heaven for those who love Him. Macduff, by contrast, has momentarily entered the kingdom of hell, where a drunken porter keeps the gate. ‘Confusion’ now hath replication of the order of divine creation. But the art here is that of confusion and death: ‘Most sacrilegious murder hath broke ope / The Lord’s anointed temple and stole thence / The life o’ th’ building.’ The understanding of the play requires close attention to be paid to such words as ‘sacrilegious’, in which political violence is bound inextricably to articles of religious faith. ‘Treason has done his worst,’ says Macbeth in one of those moments when his conscience is pricked. His worst, not its: Treason is not a concept but a living thing. The devil’s disciple, he stalks the stage of politics and brings sleepless nights through which the guilty man shakes and sweats with fear and terrible dreams, while the guilty woman descends into insanity…"
But while great art can mirror great tensions, it cannot disperse them: from this time English society became increasingly polarized. The unity obtained between Catholics and Protestants, loyalists and revolutionaries, through the cult of the Virgin Queen Elizabeth had been largely a clever theatrical stunt, but it had worked. James I, however, had a more difficult time of it, having to unify not only Catholics and Protestants, but also English and Scots. On the one hand, he had to keep his Catholic-at-heart English subjects, the "recusants", in line by spying on them, chasing up secret Jesuits and compelling all Englishmen to swear the Oath of Allegiance and receive communion in the Anglican church at least three times a year. On the other hand, as a Scot, he had to persuade his radical Protestant fellow-countrymen north of the border that he had not only a Divine right to rule, but could play a part in the life of the official church and even appoint bishops: as he famously put it, "no king, no bishop".
James’ plan to unite England and Scotland into one country failed; but the superb language of his other beloved project, the famous King James version of the Bible, translated by a committee of Anglicans and moderate Puritans, has had a profoundly unifying effect on the English-speaking peoples to this day. Nevertheless, there was no unity taking place within the political nation as the seventeenth century progressed: the Stuart kings increasingly gravitated towards the "right", while their subjects on the whole became more "leftist". An early sign of the latter’s increasing power was the ban placed by Puritan censors on any reference to God or Christ in the theatre, which meant that the word "God" appears no longer in Shakespeare from Antony and Cleopatra onwards. Shakespeare took the hint and "retired" a few years later – he was not alive to witness the final closing down of the theatre by the Puritans in 1642. And so the scene was set for the English revolution - "that grand crisis of morals, religion and government", as Coleridge called it , or "the first major breech in Absolute Monarchy and the spawning of the first major, secular, egalitarian and liberal culture in the modern world".
*
Great tensions produce great art: 1606, the year after the Gunpowder Plot produced, besides Macbeth, also King Lear and Antony and Cleopatra, a trilogy unequalled in the history of literature with the possible exception of Dostoyevsky’s trilogy of The Idiot, The Devils and The Brothers Karamazov.
King Lear is Shakespeare’s Great Friday allegory, and the imagery reflects the theme: Lear is racked on a wheel, wood and crosses and blood abound. But the real victim is Lear’s Christlike daughter Cordelia. The scene of her sacrificial, all-forgiving death, and Lear’s conversion and repentance in and through it is perhaps the most unbearably poignant in English literature.
Macbeth is Shakespeare’s allegory of the Descent into hell. Everything is darkness, demons, madness and despair. Macbeth’s final semi-atheistic despair is ferocious in the cold, cruel clarity of its vision, as even the rhythm of the verse slows down to echo the everlastingness of his damnation:
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing…
As for Antony and Cleopatra, its imagery is full of light and fire, as befits an allegory of the Resurrection. For this play is much more than a love story. It is also a story about how a fallen woman sheds her corrupt past and rises incorruptible in a kind of literary Resurrection of the body, her illicit lover Antony becoming after is death an honourable husband in her imagination, even a type of Christ the Bridegroom:
Give me my robe, put on my crown; I have Immortal longings in me…
Husband, I come.
Now to that name my courage prove my title!
I am fire and air; my other elements
I give to baser life.
Of course, we cannot know whether Shakespeare consciously considered his three greatest dramas to be an allegory of the central mysteries of the Christian faith. But the greatness of a writer does not reside in his consciousness of the depth of his art. The test is whether he makes us respond deeply – and by that criterion Shakespeare was a supremely Christian writer.
*
Shakespeare can be bawdy; but there is always a profound seriousness underlying even the comedies. He makes little spiritual epigrams which clearly point to a man who has thought about life from a definitely religious viewpoint. Thus in his very earliest extant work, Venus and Adonis, we see his Christian morality clearly expressed:
Love surfeits not: Lust like a glutton dies.
Love is all truth: Lust full of forged lies.
A deeper meditation on the same theme is found in the incomparable Sonnet 129:
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O, no! it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand’ring bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error, and upon me prov’d.
I never writ, nor no man ever lov’d.
The spiritual struggle between good and evil, angels and demons, is well known to Shakespeare. Thus in Sonnet 144, we read:
Two loves I have, of comfort and despair,
Which like two angels do suggest me still;
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour'd ill.
To win me soon to hell, my female evil
Tempteth my better angel from my side,
And would corrupt my saint to be a devil,
Wooing his purity with her foul pride.
And whether that my angel be turn'd fiend,
Suspect I may, yet not directly tell;
But being both from me, both to each friend,
I guess one angel in another's hell.
Yet this shall I ne'er know, but live in doubt,
Till my bad angel fire my good one out.
Again, in the midst of the great drama of Antony and Cleopatra we are told that our prayers are not always answered because it would not be good for us:
We, ignorant of ourselves,
Beg often our own harms, which the wise powers
Deny us for our good; so find we profit
By losing of our prayers
Again, in Richard II we are exhorted to humility as follows:
whate'er I be,
Nor I, nor any man that but man is,
With nothing shall be pleased till he be eas'd
With being nothing.
And in Hamlet we see a heartfelt desire for passionlessness:
Give me that man
That is not passion's slave, and I will wear him
In my heart's core, ay, in my heart of heart.
Even the foolish Polonius is allowed a wise aphorism:
Shakespeare mocked and undermined the medieval concept of chivalric "honour" and military glory, as in Henry IV, part 1:To thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Again, there is no sharper exposure of the hypocrisy of Christian Pharisaism than we find in Measure for Measure, which contains this biting but profoundly theological observation:By heaven, methinks it were an easy leap
To pluck bright honor from the pale-fac'd moon . . .
He did the same in Hamlet:
Rightly to be great
Is not to stir without great argument,
But greatly to find quarrel in a straw
When honor’s at stake…
Witness this army, of such mass and charge,
Led by a delicate and tender prince;
Whose spirit, with divine ambition puff'd,
Makes mouths at the invisible event;
Exposing what is mortal, and unsure,
To all that fortune, death, and danger dare,
Even for an egg-shell.
But man, proud man,
Dress'd in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assur'd—
His glassy essence—like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven
As makes the angels weep; who, with our spleens,
Would all themselves laugh mortal.
Similar in its imagery, but still more powerful, and hardly less theological, is this passage from Macbeth:
Besides, this Duncan
Hath borne his faculties so meek, hath been
So clear in his great office, that his virtues
Will plead like angels, trumpet-tongued against
The deep damnation of his taking-off,
And pity, like a naked new-born babe,
Striding the blast, or heaven’s cherubin, horsed
Upon the sightless couriers of the air,
Shall blow the horrid deed in every eye
That tears shall drown the wind.
Again, what profounder exposure of the hypocrisy of Christian anti-semitism can we find than in Shylock’s speech in The Merchant of Venice:
I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions; fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us do we not bleed? If you tickle us do we not laugh? If you poison us do we not die? And if you wrong us shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why, revenge. The villainy you teach me I will execute, and it shall go hard but I will better the instruction.
At the same time, Shylock’s greed and vengefulness is not spared, and mercy, the crown of Christian virtues, is portrayed with consummate grace:
The quality of mercy is not strain'd,
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath: it is twice blest;
It blesseth him that gives and him that takes:
'Tis mightiest in the mightiest: it becomes
The throned monarch better than his crown;
His sceptre shows the force of temporal power,
The attribute to awe and majesty,
Wherein doth sit the dread and fear of kings;
But mercy is above this sceptred sway;
It is enthroned in the hearts of kings,
It is an attribute to God himself;
And earthly power doth then show likest God's
When mercy seasons justice. Therefore, Jew,
Though justice be thy plea, consider this,
That, in the course of justice, none of us
Should see salvation: we do pray for mercy;
And that same prayer doth teach us all to render
The deeds of mercy.
However, we cannot leave the theme of Shakespeare and Christianity without considering the last work of his creative life, The Tempest. Like Beethoven who saved his greatest and most religious work to the end of his life, when he could no longer even hear, so Shakespeare left his most religious work to the end, when he was not even allowed to mention God in his plays. For just as The Winter’s Tale is another – but much more explicit – allegory of the Resurrection, so The Tempest is an allegory of the end of the world.
The main character of the play, who controls the whole action, is Prospero. He is a sorcerer, which is, of course, an evil occupation for a Christian. And yet if we judge by the fruits of his actions, he is more like God Himself than a servant of demons. And when he has finally brought everything to a happy conclusion through a truly divine providence, reuniting lovers, correcting injustice and putting evil spirits in their place, he renounces everything:
I have bedimm'd
The noontide sun, call'd forth the mutinous winds,
And 'twixt the green sea and the azured vault
Set roaring war: to the dread rattling thunder
Have I given fire and rifted Jove's stout oak
With his own bolt; the strong-based promontory
Have I made shake and by the spurs pluck'd up
The pine and cedar: graves at my command
Have waked their sleepers, oped, and let 'em forth
By my so potent art. But this rough magic
I here abjure, and, when I have required
Some heavenly music, which even now I do,
To work mine end upon their senses that
This airy charm is for, I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my book.
Like Prospero, Shakespeare now renounces his "so potent art". For he does not over-estimate the reality or value of his creations. Only God is truly creative; and so in true humility he hands back the gift he received to the true Creator Who gave it him. But he goes further. Not only will his art now come to an end, but the theatre itself and the whole of present-day reality outside the theatre will come to an end. The whole of this solid globe will disappear (Shakespeare’s theatre was called the Globe, but the globe in the sense of the whole world is also meant), and in retrospect will seem like mere stagecraft and stage-props and play-acting in comparison with the incomparably greater and more substantial new creation on the other side of the "sleep" that is death. Indeed, compared to what God has in store for us in the next life, our present temporal life is but an "insubstantial pageant", a dream:
Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air:
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.
It remains only for Shakespeare, a conscious Christian to the end, to ask forgiveness of his readers and spectators if his "rough magic" has caused anyone any harm:
Now I want
Spirits to enforce, art to enchant,
And my ending is despair,
Unless I be relieved by prayer,
Which pierces so that it assaults
Mercy itself and frees all faults.
As you from crimes would pardon'd be,
Let your indulgence set me free.
August 10/23, 2016.
* * *
THE CHURCH OF CHRIST
The Church of Christ once stood there,
A pride to all around,
A building for their Master
Where worshippers were found.
When nature in her fury
Had strewn it o’er the grounds
‘Twas sad for Glastonbury
And sorrow knew no bounds.
Their spirits were undaunting,
For He was at their side.
He would not leave them wanting,
Instead, He was their guide.
They worked, they toiled in dreaming
While all the time they prayed
And soon from all their scheming
The corner stone was laid.
The Church’s new foundation
Was built and on they plod
For by their hand’s creation
They showed their love of God.
So now the building’s ready
For all to enter in
With thanks for hearts so steady
In deepest love for Him.
Although ‘tis built by mortals,
Of stone and wood and clay
On passing through it’s portals
One knows He’s there each day.
This Church’s stone foundation
May crumble and decay,
But faith, their soul’s creation
Will never pass away.
* * *
ВАЖНОСТЬ ХОРОШЕЙ ИНФОРМАЦИИ!
Г.М. Солдатов
Мой дантист, американец английского происхождения, вернулся со своей супругой из поездки в Европу. Казалось бы, ничего в этом не было бы интересного за исключением того, что он поднял цены за вырывание зубов: если зуб ломается, то нужно платить по новой расценке не 275, а 325 долларов. Для меня было другое интересно от него слышать. Он был три дня на Украине и начал свой восторженный рассказ с того, как ему, понравился Киев. Он привез кучу сувениров. Один из них картинка с привязанной к столбу в национальной одежде девушкой, которой орел с головой В. Путина грозит вырвать сердце. Как дантист сказал: «прекрасная страна, богатая, но очень несчастная, русские уморили голодом 30 миллионов украинцев. Что ж, я сказал, я тоже русский и в 30 годах погибли не только жители Украины, но и жители многих других частей СССР, в котором много национальностей и не только русские управляли государством.
Вот с какой информацией возвращаются из поездки на Украину туристы в Америку! Почему я пишу об этом? Хочу указать на то, что получаемая информация об Отечестве или об Соединенных Штатах на нашей Родине не всегда понятна и соответствует действительности.
То, что происходит теперь в Восточной Украине трагедия, и мы в Зарубежной Руси молимся, дабы Господь дал жителям мир. По всей Украине старые забытые могилы воинов и мирного населения. Столетиями туда вторгались с востока кочевники, с запада ляхи и другие, с юга татары и турки, желавшие покорить страну. Страной правили хорошие и плохие гетманы. Население Украины много страдало от между усобиц и гражданских войн, но всегда выходило победителем и освобождало свою страну от врагов. Были часто люди в правительстве, может быть даже желавшие добра стране, но ошибшиеся в своих расчетах, принеся горе населению, соблазнявшие обещаниями улучшения жизни населению: Мазепа, Петлюра, Махно и Степан Бандера с которым мне лично пришлось встретиться и говорить в Мюнхене, в лагере Шлейсхайм после одного из собраний молодежи ОРЮР.
В своем выступлении он говорил о праве почти по его словам самого многочисленного в Европе народа живущего в СССР, Польше, Австрии, Венгрии, Румынии и Чехословакии, иметь свою независимую страну, говорить на своем родном языке, учить в школах свою богатую литературу и петь народные песни чего его лишают в течение столетий разделившие между собой оккупанты Украины.
Насчет современной гражданской войны на Востоке Украины. Ко мне, как и многим другим в Америке приходили сведения, которые приводили в раздумье о том, что действительно там происходит и кто воюет против кого. Не то, что я не верил своим друзьям, присылающим статьи и с которыми у меня личная переписка из Украины и РФ, нет, было трудно мне объяснить поведение и идеологию некоторых людей. О происходящем на Украине и некоторых участниках в борьбе помещались статьи и поэзия в Верности, но вопросы продолжали копиться, и на них некому было давать ответы. Не понятно в частности как могли участвовать воины в Луганске и Донецке под трехцветными и двуглавым орлом знаменами Национальной России и красными с серпом и молотом СССР, как они могли быть и «белыми» и «красными»? Это для нас в Зарубежной Руси несовместимо! И нам не понятно! Какую будущность такие воины защищают и хотят для Отечества?
Если С. Бандера говорил о праве украинцев говорить на своем родном языке, то, что можно сказать о современном праве русских быть частью России и говорить по-русски. Ко мне пришло письмо из Киева, в котором мой знакомый друг пишет), учился в ун-те Миннесоты) о том, как его дочь заставляли в школе писать и говорить не по-русски, о том, что он должен преподавать курс электрики в университете по-украински, а его супруге также преподавательнице обходиться на лекциях по химии и физике без учебников, так как их еще не перевели на украинский язык. В общем, население страдает и возможно отстанет технически от других народов из-за насильственной политики правительства.
Но если нам в Зарубежной Руси не все понятно происходящее в Отечестве, то согласно приходящим письмам то, что происходит в Америке также не понятно нашим соотечественникам на Родине. В течение нескольких месяцев в США происходят крупные расовые беспорядки, затронувшие как население страны, так и правительственные учреждения и даже президента Барака Обаму. Обвинения правительственными органами, прессой и жителями часто делались, прежде чем было проведено расследование, и стали известны детали стрельбы полицейскими чернокожих.
Читатели Верности, вероятно, заметили, что адрес маленького городка пригорода Миннеаполиса, в котором я проживаю: St. Anthony (Сант Антони). Полицейский нашего городка Jeronimo Yanez 6 июля застрелил Philando Castie, что взволновало всю страну. Почти за сутки (что очень подозрительно) появились новые организации с протестом существующей организации американской полиции с требованием проведения реформ. Самая мощная организация "Black Lives Matter" - «Жизнь Черных Имеет Смысл», начала распространение маленьких плакатов втыкающихся в землю с надписью «мы видим, мы слышим, мы с вами». Одна из основательниц организации Alicia Garza в своих выступлениях отметила, что организация имеет идеологическую и политическую цель вмешательства в делах мира, в котором с намерением черные жизни систематически унижены. В ее выступлениях обвинения белых американцев и европейцев в расовых преступлениях, но ей это прощается т.к. опасаются демонстраций в ее защиту.
Почти сразу же после объявления организацией начала своей работы ее организаторы были приглашены в Белый Дом. В нашем маленьком (8 тысяч населения) городке начались проводиться демонстрации, на которые участники приезжали из других городов, требуя суда полицейского. Они не только вели себя громко, но ложились на дорогу и этим останавливали движение. Они также проводили демонстрацию перед магазинами городка, для того чтобы финансово подействовать на доходы в городе.
Почти сразу же после известия о происшедшем губернатор штата Миннесота мультимиллионер Марк Дайтон (большие магазины под именем его семьи по всей стране) начал свою компанию по защите чернокожих. Начали проводить следствие FBI (Федеральное Бюро Расследования), прокурор и полицейские чиновники. Как свидетель, выступила бывшая в автомобиле с застреленным Филандро, его подруга Diamond Reynolds с 4 летней девочкой. Все происшедшее она засняла на телефон. Когда полицейский остановил автомобиль и спросил документы, у Филандро то она крикнула полицейскому «у него пистолет». Увидев, что Филандро лезет в карман и, услышав о пистолете, полицейский не ожидая что, будет происходить, выстрелил в Филандро. О происшедшем сразу же от свидетельницы, подруги застреляного, благодаря Интернету и телевидению стало известно по всей стране, также как и заявление Диамонд о том, что Филандро будто бы не хотел вытащить из кармана пистолет, а только свои документы.
Как пишет журналист Gerald Flurry (The Philadelphia Trumpet, June-July 2016), президент в это время находился в Польше, но все же до своего возвращения и добавочных сведений поместил послание на Файсбук о том, что он потрясен выстрелами по Alton Sterling в Батон Рудж, Луизиане и Филандро в Миннесоте. Он признал, что не имеет деталей в обоих случаях, но все же обвинил полицию в несправедливом обращении к черным американцам за цвет их кожи. «Независимо от исхода расследования сказал он ясно, что такая стрельба с чреватыми последствиями не случайные происшествия». «Они систематичны и представляют широкие затруднения в нашей криминальной юридической системе, делая разделение которое проявляется из года в год, с результатом отсутствия доверия между блюстителями порядка и поселениями которым они служат».
Таким образом, как написал журналист, президент заранее сделал обвинение американской полиции в систематическом расизме. Президент, считает он, не должен был обвинять полицию, находясь далеко в Польше, не имея точных фактов. Как он написал президент, уже раньше делал подобные обвинения в расизме, и министру юстиции пришлось заявить о том, что не было найдено неправильного поведения полицейского в случае с Михаилом Брауном. Как журналист отметил, президент не сделал заявления о сделанной им ошибке, и не извинился, но подобные его заявления вызывают зло, и в данном случае, после нескольких часов, заявления президента, черный супрематист стрелял в 12 полицейских в Далласе Техасе во время проведения там демонстрации Black Lives Matter. Пять полицейских было убито, в то время, когда они присутствовали для порядка на демонстрации в защиту чернокожих. Стрелявший в полицию Micah Johnson до того как его самого застрелили при перестрелке, заявил, что он был расстроен стрельбой по черным и «хотел убить белых людей – в особенности белых полицейских». Через неделю в Батен Рудж, Луизиане, Gavin Long имевший связь с организацией Louis Farrakhan’а Нацией Ислама, застрелил трех полицейских. Уже в 1995 году Гералд Флури предупреждал в статьях о том, что Сатана хочет уничтожить правительство страны и для разделения населения взрывает социальную бомбу расовой ненависти.
Стрельба полиции задержанных должна в Америке, если не прекращена, что не возможно, но сокращена до возможного минимума. Но те, кто организовывает демонстрации и протесты, должны были бы познакомиться с фактами действительности. По отчету FBI, например в 2014 году было арестовано 2,152, 754 черных и 5, 780, 682 белых. На каждых 100, 000 черных жителей 13,05 были убиты полицией, но 14.74 белых на такое же число жителей. Мало кто обращает внимания на то, что белых жителей Америки погибает от стрельбы полиции более чем черных. Нужно принять к сведению, что на полицейской службе находятся люди разных рас, и при сообщениях в большинстве случаев не дается сведения о том, кто именно стрелял. Часто сообщается о том, что полиция не стреляет, но отстреливается, защищая собственные жизни.
Мне хочется указать читателям на то, что у нас нет точных сведений, и мы обоюдно в большинстве случаев не знакомы с происходящим в Америке или в РФ и поэтому не должны делать быстрых выводов. Что нам православным верующим известно из Священного Писания, что перед вторичным приходом Спасителя на землю наступят страшные времена (Исаия 2, 2) и к страху многих верующих в наши дни по всему миру произошло страшное отхождение населения от закона Господня (Исаия 30, 9) и поэтому увеличилось в мире зло и расовая ненависть.
Привожу болезненные вопросы: На днях я получил по Интернету обращение В.И. Корчагина, Академика МСА с вопросом, почему в Конституции РФ нет в списке национальностей русских, в то время как другие жители там указаны. Для нас жителей Зарубежной Руси гордившихся всю жизнь, так же как и наши родители, тем, что мы русские и православные было не легко во время т.н. холодной войны переносить жизненные затруднения по причине того, что мы русские и православные.
На памяти у нас в Зарубежной Руси как мы встречали приезжавших из СССР в Америку людей, и они настоятельно утверждали, что они советские, а не русские. Нас такое высказывание поражало и теперь возникает невольно вопрос, неужели советское прошлое по-прежнему остается в РФ и духовное и культурное достояние Русского населения по-прежнему ущемляется? Неужели что сами русские не хотят себя так называть, что напоминает Ивана из оперы «Запорожец за Дунаем» – я уж больше не казак, а Урхан – на туркене поженюсь, - заведу себе гарем. Но это была театральная шутка, так как казакам не свойственно отказываться от православной веры и казачества.
Посылаемое нам в Зарубежную Русь часто хоть и на русском языке написано, но трудно понимаемо в связи с тем, что пишется людьми заинтересованными или ввести нас в свои стремления разъединения с соотечественниками в Отечестве или людьми, живущими настолько в прошлом, что они не сознают, что возврата к прошлому не может быть.
Ну, например как может подписывать академик В.И. Корчагин свое обращение с призывом «Да помогут нам Русские Боги, Сварог, Перун и Велес!» Что это издевательство над религиозными чувствами населения Отечества? Читая его обращение, возникает несколько других серьезных вопросов в частности, знает ли он сам, что происходит в РФ или нет. Но понятно одно, он призывает политически поддерживать В. Жириновского, который как академик уверяет, единственный политик, стоящий на страже русских интересов. Для нас в ЗР не знакомых хорошо с политической работой в РФ трудно разобраться в таких вопросах.
Не проходит месяца как повторяется в РФ очередное насилие над теми, кто не согласен быть частью правительственной МП. Приходят сведения о преследовании православного духовенства и верующих Суздальской Митрополии.
Вопрос будто бы был поднят жителями Луганска, переименовать город в Сталино, как он был известен во время правления СССР этим диктатором, но до этого назывался Юзовка и Донецк. Будто бы переименование поддерживает Зюганов. Насколько это, правда, нам конечно не известно так же и то, какое количество и кто хочет переименование.
В Москве в начале сентября произошел съезд людей желающих восстановления СССР, на котором было в частности решено »съезд граждан СССР заявляет – изменникам Родины, предателям социализма, живым или мертвым, нет места на политой кровью священной советской земле! Вина их перед Советским народом огромна, а ответственность не имеет сроков давности и неотвратима». «Пора очиститься от измены и предательства, въевшиеся в нашу жизнь со дня похорон Сталина, воздать каждому по заслугам. С выкорчевыванием многолетней скверны начнется подлинное восстановление нашего многонационального социалистического Отечества». Авторы этого обращения пишут, что на Украине теперь «вся общественная система на Украине развернута вспять, к временам царской России и феодализма». «Ввести наступательную агитацию и пропаганду, прямо вскрывая тех, кто предавал и клеветал на наши святыни, на советских вождей и героев».
Что это был в Москве сбор действительно людей желающих народу добра или же желающих возвращения к советской системе партийного правления с концлагерями? Нашим соотечественникам, проживающим в Отечестве легче ответить на такие вопросы, чем нам в Зарубежной Руси.
Начиная с царствования Иоанна Грозного, границы Московского государства, а затем Империи двигались после занятия пограничных областей казаками. Это были вначале в большинстве беглые люди на юг от барщины, провинившиеся пред законом и стремившиеся принять участие в военных походах и приключениях. Это были люди твердо верующие в Православие и защищавшие веру своими жизнями. В Империи было 1. Донское, 2. Кубанское, 3. Терское, 4. Астраханское, 5. Оренбургское, 6. Уральское, 7. Сибирское, 8. Семиречинское, 9. Забайкальское, 10. Амурское, 11. Усурийское, и Иркутская казачья сотня, Красноярская казачья сотня.
Во время Гражданской войны Гетман Скоропадский пытался создать Днепровское казачье войско, назначив его атаманом Полковника Александра Сахно-Устимовича. Но ни войско, ни правительство не успели начать действия, как правление Украины сменилось С. Петлюрой.
Во время правления коммунистической власти в СССР казаки преследовались, лишены имущества и выселены в Сибирь и другие области страны. Многие были казнены или заморены голодом. Их печальная история во время мировой войны и коллективизации описаны в романах Шолохова и ген. Краснова. Во время второй мировой войны, многие казаки, предполагая, что большевицкая власть, падет, и вернутся прежние порядки, также как и жизнь в казачьих областях страны, организовывали казачьи войска на освобожденной от красных войск территориях. У немецкого военного командования они просили военное снаряжение. Но немецкое правительство не желая организации русского, украинского или казачьего правительства или армии не допускало организацию больших отрядов, а правительственных органов более чем городского правления. Русский Корпус с Балкан не был немцами допущен к границам СССР также как и крупные части Власовской дивизии. Если бы немцы допустили бы эти части к границам СССР и разрешили организацию свободного русского правительства, то вероятно исход войны был бы иным. Но у национал социалистического правительства Германии были другие планы, чем у других народов даже желавших помочь им в борьбе против коммунизма. На прибалтийские страны Эстонию, Литву и Латвию немцы уже смотрели как на восточную часть Германии – Ostland, Польша и Украина часть Генерал-губернаторства до определения границ. То есть правительство Германии не планировало будущее восточных европейских стран, как и Кавказских, в интересах населения этих стран и надеялось победить коммунизм собственными силами Великой Германии.
Как военные части Казаков, так и воины Власовской Дивизии и Русского Корпуса не предполагали, чтобы после победы над коммунизмом будут хорошие взаимоотношения с национал социалистической Германией и предвидели будущую с ней борьбу. Никто из них не предполагал подчинение России Германии. Поэтому когда недавно мы в Зарубежной Руси увидели неизвестного издания интернетовские ролики с обвинениями как: «Донские Казаки бесславные выродки России от полицаев Гитлера до холуев Путина» нас охватило чувство наступления очередного похода против славных казаков. Обвинения их в современной, гражданской войны и второй мировой войны борьбе на Луганщине как нам кажется, не соответствует правде, а является повторением прошлой пропаганды против России и ее казаков-защитников.
В борьбе можно бороться правдой. Так учил Спаситель и Его Святые. Сейчас в мире исправляется много исторических измышлений и с радостью можно видеть, как ряд историков в новых работах делают серьезные исправления. В частности историки Израиля недавно исправили исторические книги о падении Иерусалима в войне с Римом и количество еврейских жертв во время мировых войн. Желательно чтобы история России была также пересмотрена, и все возможное соответствовало в новых изданиях истине, а не политической пропаганде. К примеру, в новых книгах по истории Израиля говорится о 3 сотнях тысяч, а не миллионе погибших в Иерусалиме. В Талмуде было сообщено о 4 миллиардах! убитых евреев римскими воинами во время Императора Адриана, при чем написано, что кровь текла в океан, неся с собой большие камни… также уже исправлено. Сообщение в октябре 1919 года Нью- Йоркским губернатором Мартином Глинном о том, что во время мировой войны 1914-19 годов погибло 6 миллионов евреев, которое было перепечатано в American Hebrew Magazine, издание американского еврейского комитета, в этом же месяце и годе, и было, потом повторено почти перед концом второй мировой войны теперь было исправлено.
Историки серьезно занялись исправлением неточных исторических сведений своих стран. Русским историкам нужно также проводить подобную работу и снимать возводимые ложные пропагандные исторические сведения в частности против Отечественных Святых, Церкви, царях и правителях, ее воинов и славных казаков.
Хочется окончить чем то веселым: Недалеко от нашего городка в другом маленьком местечке Cormorant Township, на третий срок переизбран меером городка Дюк, 9 летний белый пушистый пиренейский пес. Он любит детей, приветливо встречает всех въезжающих в городок, и отличается от других политиков тем, что не крадет у населения и не требует взяток.
=================================================================================
Многие зачитывались романами о гражданской войне Ген. П.Н. Краснова и М.А. Шолохова, но теперь в Отечество Господь Бог послал талантливую писательницу Елену Семенову, трудами которой также можно увлечься настолько что, не отрываясь, хотелось бы наслаждаться чтением. Роман «Честь никому!» как и другие труды писательницы как например в этом номере Верности Н.В. Гоголь "На Ступенях к Седьмому Небу", освещают историю и культуру России. В других странах мира таких деятелей культуры называют "национальным кладом". Елена Владимировна наш русский драгоценный клад! Бог ей в помощь в дальнейших трудах на пользу Православной Церкви и сохранению духовных и культурных ценностей Отечества. Рекомендуем читателям Верности ознакомиться с трудами Елены Владимировны на Сайте
"АРХИПЕЛАГ СВЯТАЯ РУСЬ'':
http://rys arhipelag.ucoz.ru/index/0-2=================================================================================
ВЕРНОСТЬ (FIDELITY)
Церковно-общественное изданиеОбщества Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого).
Председатель Общества и главный редактор: проф. Г.М. Солдатов. Технический редактор: А. Е. Солдатова
President
of The Blessed Metropolitan Anthony (Khrapovitsky) Memorial Society and Editor in-Chief:Prof. G.M. Soldatow
Сноситься с редакцией можно по е-почте: GeorgeSoldatow@Yahoo.com или
The Metropolitan Anthony Society, 3217-32nd Ave. NE, St. Anthony Village, MN 55418, USA
Secretary/Treasurer
: Mr. Valentin Wladimirovich Scheglovski, P.O. BOX 27658, Golden Valley,MN 55427-0658, USA
Список членов Правления Общества и Представителей находится на главной странице под: Contact
To see the Board of Directors and Representatives of the Society , go to www.metanthonymemorial.org and click on C contact
Please send your membership application to: Просьба посылать заявления о вступлении в Общество:
Treasurer/ Казначей: Mr. Valentin Wladimirovich Scheglovski, P.O. BOX 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, U USA
При перепечатке ссылка на Верность ОБЯЗАТЕЛЬНА © FIDELITY
Пожалуйста, присылайте ваши материалы. Не принятые к печати материалы не
возвращаются
Мнения авторов не обязательно выражают мнение редакции. Редакция оставляет за собой право
редактировать, сокращать публикуемые материалы. Мы нуждаемся в вашей духовной и финансовой поддержке.Any view, claim, or opinion contained in an article are t hose of its author and do not necessarily represent those of the Blessed Metr. Anthony Memorial Society or the editorial board of its publication, Fidelity.
=========================================================================
ОБЩЕСТВО БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
По-прежнему ведет свою деятельность и продолжает издавать электронный вестник «Верность» исключительно за счет членских взносов и пожертвований единомышленников по борьбе против присоединения РПЦЗ к псевдоцеркви--Московской Патриархии.
The Blessed Metropolitan Anthony Society published in the past, and will continue to publish the reasons why we can not accept at the present time a "unia" with the MP. Other publications are doing the same, for example "Sapadno-Evropeyskyy Viestnik" http://www.karlovtchanin.eu, (Rev.Protodeacon Dr. Herman-Ivanoff Trinadtzaty, Ed.). Russian True Orthodox Church publication in English: http://ripc.info/eng, in Russian: www.catacomb.org.ua, Lesna Monastery: http:www.monasterelesna.org/, ROCOR(A), РПЦЗ(A): http://sinod.ruschurchabroad.org/. http://internetsobor.org/novosti.
There is a considerably large group of supporters against a union with the MP; and our Society has representatives in many countries around the world including the RF and the Ukraine. We are grateful for the correspondence and donations from many people that arrive daily. With this support, we can continue to demand that the Church leadership follow the Holy Canons and Teachings of the Orthodox Church.